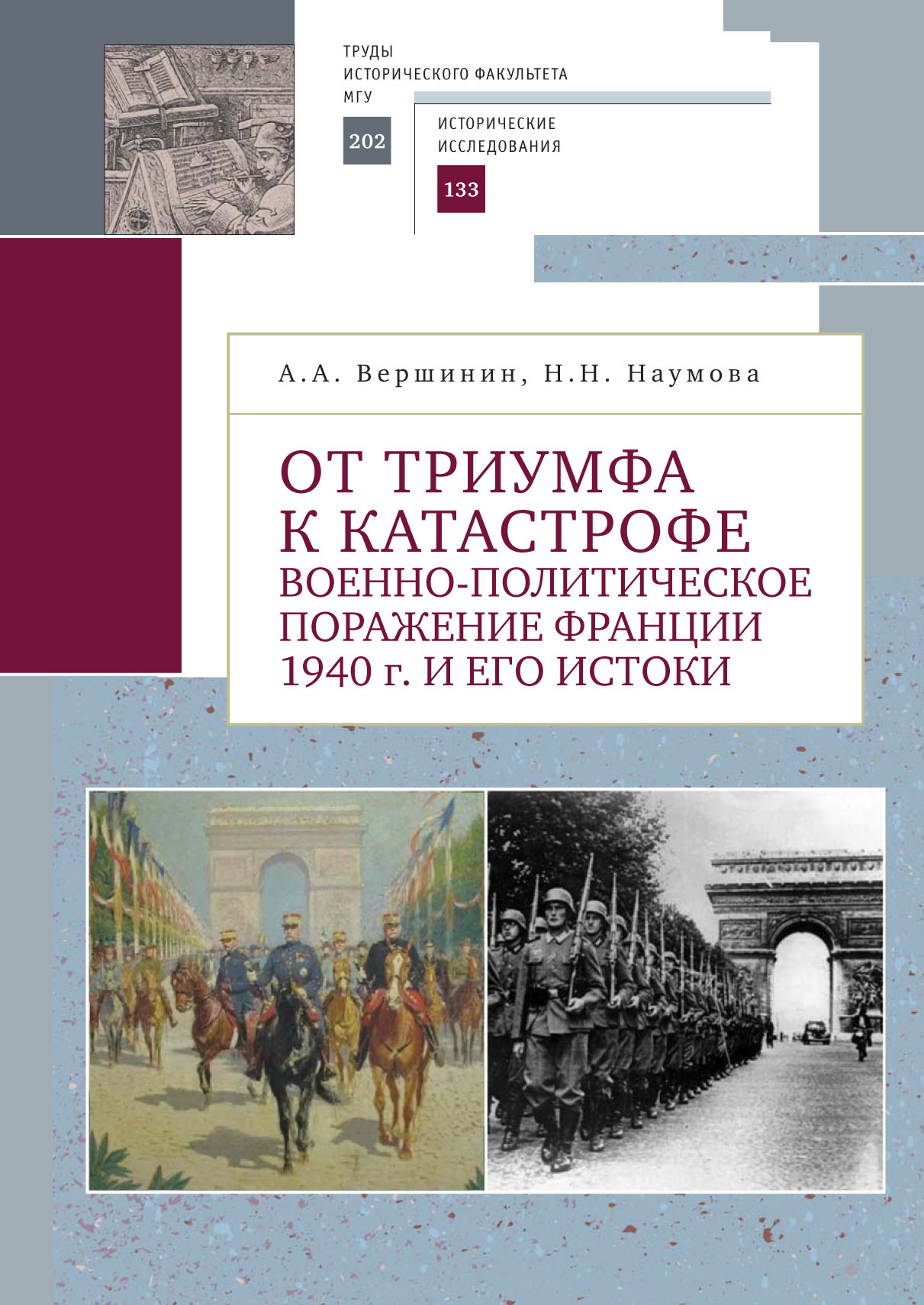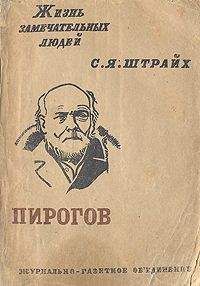нем отмечались препятствия для формирования эффективной коалиции восточноевропейских государств под французским руководством [346]. Помимо внутренних противоречий, существовавших между восточноевропейскими государствами, в их числе фигурировала военно-экономическая слабость «тыловых союзников». Вейган хорошо понимал: даже взятые в своей совокупности, они не обеспечивали мощи, способной создать боеспособный восточный фронт по типу того, который существовал в годы Первой мировой войны, благодаря России.
В этой связи генерал рассматривал перспективу пересмотра политики Франции в отношении СССР. Вейган всегда оставался последовательным антикоммунистам и мало симпатизировал советской идеологии. В этом он следовал за большей частью французского политического класса, который с подозрением относился к внешнеполитическим инициативам Советского Союза, его внутренней политике, деятельности Коммунистического Интернационала, а также сохранял болезненную память о невыплаченных царских долгах и национализированной собственности [347]. Однако в непростых международных условиях начала 1930-х гг. эта враждебность отходила на второй план. Столкнувшись с непримиримой позицией Германии на Женевской конференции и убедившись в невозможность опереться на британскую поддержку, правительство Эррио сделало серьезный внешнеполитический ход, заключив в ноябре 1932 г. пакт о ненападении с Советским Союзом [348].
Это событие дало старт неформальным консультациям по вопросу о возможности расширения военных связей между двумя странами. С французской стороны их вели близкие к Вейгану лица. Наиболее заметную роль играл подполковник Ж. де Латр де Тассиньи, будущий маршал Франции. Он полагал, что реализация «программы минимум» должна была обеспечить советское невмешательство в случае франко-германского конфликта, принимая во внимание напряженные отношения СССР с Польшей и его сотрудничество с Германией в рамках Раппальского соглашения 1922 г. и двустороннего договора о ненападении и нейтралитете от 1926 г. «Благожелательный нейтралитет» Москвы стал бы, таким образом, большим выигрышем. В то же время он считал необходимым развивать контакты с Красной Армией. [349]
Вейган поддерживал эти планы. Не переоценивая шансы на формирование полноценного советско-французского альянса, он склонялся к мысли о том, что без советской помощи система «тыловых союзов» не справится со своей функцией в случае войны. Франция не могла самостоятельно ликвидировать дисбалансы в военно-экономической мощи Германии и ее восточных соседей. Для этого ей не хватало ресурсов, и в ситуации бюджетных сокращений изменение подобного положения дел в краткосрочной перспективе не просматривалось. Кроме того, остро стоял и логистический вопрос. Позиция Италии в ситуации конфликта в Восточной и Юго-Восточной Европе оставалась неясной. Следовательно, под вопросом оказывался итальянский транзит военных грузов. Выкладки Генштаба показывали, что поставки по единственно доступному пути через порт в Салониках не могли удовлетворить потребности «тыловых союзников». Взвесив все эти обстоятельства, Вейган констатировал: «Сближение с Россией, помимо любого военного сотрудничества, возможно, позволило бы нам обеспечить Малую Антанту военными поставками, которые мы не сможем осуществить другим путем». [350]
В марте 1933 г. было принято решение об обмене военными атташе с Советским Союзом. В Москву отправился вхожий в окружение главнокомандующего полковник Э. Мандра. В Париже приняли комбрига С.И. Венцова. В своем отчете советский представитель отмечал: «Все решения по связи с нами принимаются не в совете министров, не в генштабе, а в “доме” ген. Вейгана» [351]. В задачи Венцова входило развитие военно-технического сотрудничества между двумя странами. Установление связей в этой чувствительной для двусторонних отношений сфере могло стать важным фактором дальнейшего сближения. Вейган считал, что Франции стоит пойти навстречу советским предложениям. На запрос Гамелена о возможности продажи Советскому Союзу товаров военного назначения он ответил твердым согласием, отметив, что «речь идет о деле, важность которого может проявиться во всех отношениях» [352].
В то же время, все эти построения оказались бы бесполезными в том случае, если бы Франция окончательно утратила свое военное могущество. Что должно лежать в основе французской стратегии? В конце 1933 г. военные и гражданские власти в попытках сформулировать ее цельное видение следовали расходящимися курсами. «Отстраненные от выработки правительственных решений, они [военные – авт.] решительно отвергали их; взаимное недоверие, отсутствие сотрудничества, конфликты между двумя властями препятствовали, одновременно, и успеху дипломатических переговоров и реализации необходимой модернизации французской армии» [353], – отмечают Ж. Дуаз и М. Вайс. Попытки политиков реанимировать бриановскую стратегию не имели перспективы ввиду позиции Германии, которая больше не видела смысла в игре по общим правилам. В то же время армейское командование, готовое скорее дать Берлину вооружиться, чем пойти на сокращение французских вооружений, не учитывало того очевидного факта, что при отсутствии международных ограничений Германия быстро превзойдет Францию в военной мощи. Противореча самим себе, военные утверждали, что французские вооруженные силы с 1918 г. накопили серьезный качественный отрыв от германских. «Мы посмотрим, за какой срок немцы смогут догнать нас, учитывая те 20 миллиардов, которые мы потратили на вооружения!» [354], – говорили они с определенной долей самонадеянности.
Поль-Бонкур, отмечавший слабость аргументации военных, находился в невыигрышном положении, так как правоту Вейгана, казалось, подтверждал весь ход событий вплоть до 1939 г. Между тем, в 1933 г. германская угроза не казалось столь неотвратимой, а потенциал международного сотрудничества – исчерпанным. Предупреждения разведки о росте германских вооруженных сил выглядели малоубедительными. Политики продолжали считать, что военные осознанно драматизируют ситуацию. На все возражения генералов министр финансов отвечал, что «французская армия остается сильнейшей в Европе, и во главе угла стоит проблема поддержания равновесия бюджета» [355]. Экономический кризис заслонял собой отдаленную перспективу военной эскалации. Немалое влияние на действия правительства оказывали и чисто политические соображения. О. Вьевьорка отмечает: «Часто разделяя консервативные взгляды, военные, за редчайшими исключениями, не являлись реальными заговорщиками против республики. Но воспоминания о деле Дрейфуса оставались чрезвычайно живыми и подпитывали подозрения прогрессивных кругов» [356]. Социалисты и коммунисты до 1935 г. отказывались голосовать за военные кредиты. Генералы в свою очередь подозревали левых в ведении подрывной работы в армии. Задачи национальной обороны являлись одной из ставок во внутриполитической борьбе.
Ситуация начала меняться в начале 1934 г. В результате антиправительственных выступлений 6 февраля кабинет Даладье ушел в отставку. Новый председатель Совета министров Г. Думерг, 70-летний бывший президент республики, сформировал правительство, ядро которого составили политики центристской ориентации. Портфель министра иностранных дел в нем получил Л. Барту. Он являлся ярким представителем старшего поколения республиканской элиты. Барту впервые избрался в парламент в 1889 г. и с тех пор не покидал французский властный Олимп, семь раз занимая различные министерские посты. Начав свою карьеру в консервативных кругах, в 1899 г. он примкнул к движению за реабилитацию несправедливо осужденного капитана А. Дрейфуса. После этого ему довелось принять участие во всех главных политических боях периода рассвета Третьей республики, последовательно занимая при этом центристскую позицию. Правые не могли забыть его дрейфусарства, левые – борьбы против стачечного движения в 1900-е гг. и закона о трехлетней