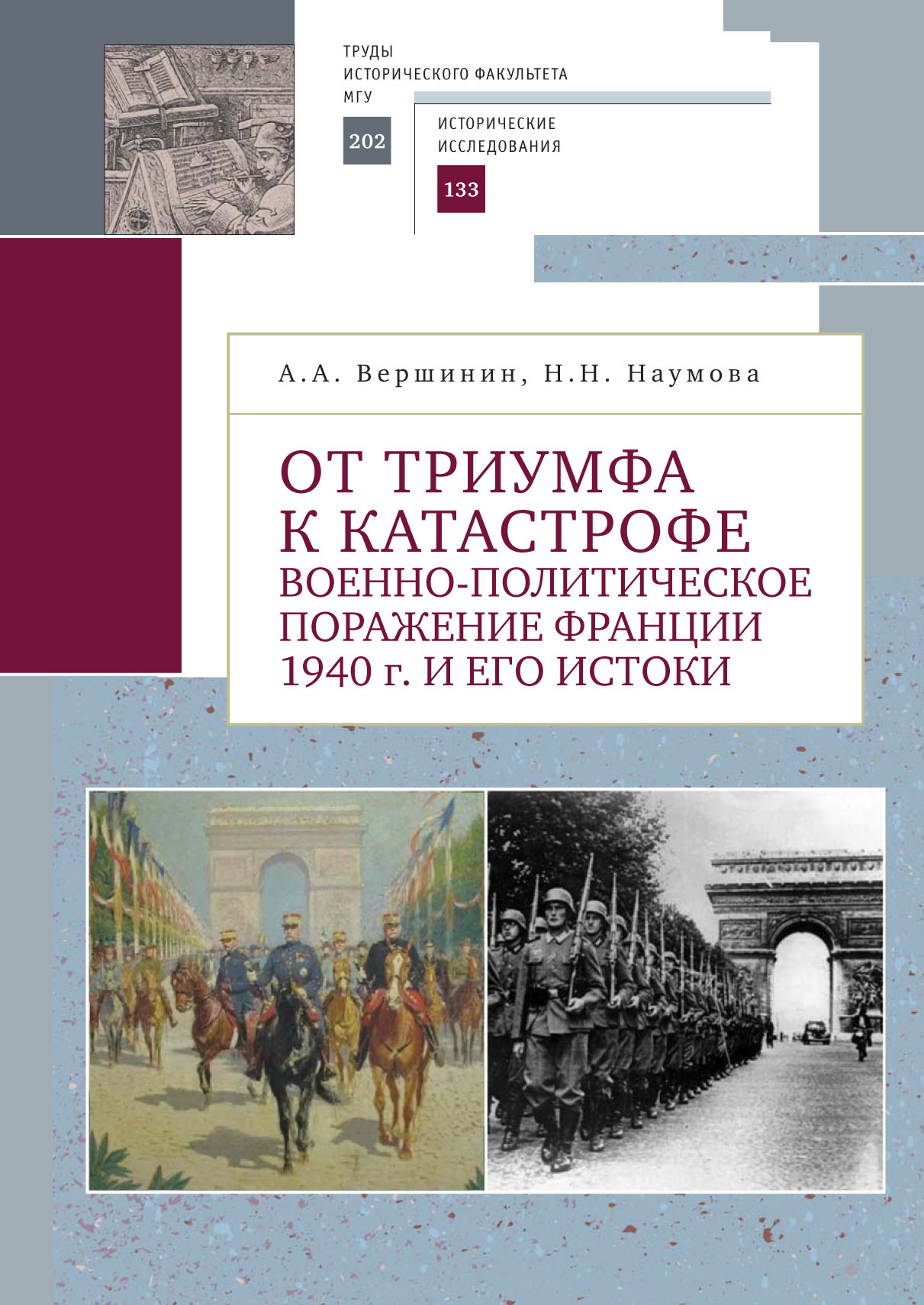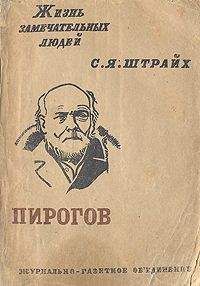проектах всеобщего разоружения подходила к концу. Следующим шагом было возвращение к вопросу финансирования вооруженных сил.
В мае 1934 г. Вейган собрал заседание Высшего военного совета, который констатировал, что «в своем нынешнем состоянии французская армия неспособна успешно противостоять враждебным действиям Германии». В принятом по его итогам документе, адресованном военному министру, предлагалось незамедлительно восстановить фактическую численность вооруженных сил до уровня, закрепленного в законах 1927–1928 гг., и «срочно поставить в армию необходимое снаряжение, в частности то, которое требуется для формирования соединений современных танков, накопления противотанковых средств и моторизации крупных соединений». Одновременно, в письме предусматривалась возможность увеличения численности армии мирного времени в случае роста германской военной мощи на фоне приближающихся «тощих лет». По сути, речь здесь шла о предложении увеличить срок службы по призыву [372].
Однако никакого заметного расширения финансирования армии после апреля 1934 г. не последовало. Правительство по-прежнему придерживалось политики экономии с целью сбалансировать бюджет. Даладье был недалек от истины, когда заявлял в 1947 г.: «1934 не стал годом перевооружения Франции или подготовки этого перевооружения» [373]. В армию за весь период было поставлено всего семь танков, в то время как в Германии шло формирование трех бронетанковых дивизий. Выделенных из бюджета средств хватило лишь на то, чтобы поддержать численность офицерского корпуса, дополнительно привлечь в вооруженные силы профессиональных солдат и усилить дивизии мирного времени [374]. В июле и ноябре (при преемнике Петэна на посту военного министра генерале Л. Морэне) было принято решение о старте программы перевооружения в рамках предложений Вейгана. В своем окончательном виде она предполагала производство 300 легких танков нового образца и 30 тяжелых машин (B-1) (с перспективой увеличения этого количества), 1400 противотанковых пушек калибром 25 мм, 3–4 млн. противогазов и завершение оборудования «линии Мажино» [375]. Деньги на реализацию программы должны были поступить не раньше 1935 г. Вопрос о переходе от однолетнего срока службы по призыву к двухлетнему оставался открытым и «неудобным» [376]. Против пересмотра этой части военных законов 1927–1928 гг. выступала большая часть общественного мнения и крупнейшие политические партии. Петэн, разделявший мнение генералитета о необходимости двухлетнего срока службы, как член кабинета был вынужден публично дезавуировать подобные предложения.
Несмотря на те конструктивные отношения, которые сложились у министров Думерга с военными, правительство так и не нашло удовлетворительного способа решения старых проблем. Французская внешняя политика по-прежнему пребывала на распутье и не ставила четких ориентиров для национальной стратегии. В июле 1934 г. международная обстановка обострилась на фоне событий в Австрии, где местные нацисты при негласной поддержке Берлина предприняли попытку государственного переворота. Перспектива аншлюса встревожила Муссолини [377]. На Кэ д’Орсэ увидели возможность сближения Парижа и Рима на фоне растущей германской угрозы. Барту заявил о необходимости заключения международного соглашения, которое обеспечивало бы статус-кво в центральной и юго-восточной Европе [378]. Однако контуры этого документа были неясны, а Муссолини являлся трудным партнером по переговорам [379].
В то же время шел диалог с Москвой. Барту имел репутацию давнего противника большевиков. Он резко оппонировал советской делегации на Генуэзской конференции 1922 г. и в качестве министра юстиции преследовал видных членов ФКП [380]. В то же время идеология для него никогда не стояла на первом плане. Весь политический опыт французского министра говорил о его готовности к самым широким соглашениям, если на кону находился конкретный политический интерес. Именно это качество Барту подчеркивал французский историк Ж.-Б. Дюрозель, когда со ссылкой на советского дипломата И. М. Майского сравнивал его с Черчиллем [381]. Сближение с Советским Союзом диктовалось очевидными стратегическими соображениями. Оно «вписывалось в многовековую традицию, подталкивавшую все политические режимы, находившиеся у власти во Франции, к поиску союзников на востоке» [382]. Однако Барту едва ли хотел вернуться к той модели, которая существовала до 1914 г. Речь, скорее, шла о том, чтобы совместить два подхода, реанимировать систему коллективной безопасности за счет дополнительных соглашений. «Он [Барту – авт.] видел очень четкие пределы того, насколько далеко можно было зайти в отношениях с Советским Союзом. Он бы приветствовал начало разумного диалога с Германией, но фокус заключался в том, чтобы найти равнодействующую между опасным оптимизмом и деструктивным пессимизмом. Он верил, что это удастся сделать в рамках политики, объединяющей осторожность, уверенность и реализм», – отмечает Р. Янг [383].
Предложенный Барту замысел сближения с Советским Союзом после ряда обсуждений вылился в сложный проект, который предполагал не столько возвращение к «концерту держав», сколько доработку старой Локарнской модели коллективной безопасности. Франция инициировала заключение так называемого Восточного пакта – системы соглашений о взаимопомощи между Германией, ее восточными соседями, СССР и государствами Прибалтики, выступая гарантом Советского Союза от неспровоцированного нападения. Москва брала на себя аналогичные обязательства в отношении Парижа в рамках Рейнского гарантийного пакта. Договоренности заключались под эгидой Лиги Наций, членом которой в сентябре 1934 г. по настоянию Барту стала Москва, и адаптировались к положениям ее устава. Этот проект содержал целый ряд неизвестных [384]. Шансы того, что к участию в нем можно было бы привлечь Германию, изначально оценивались невысоко. Барту выражал готовность действовать и без согласия Берлина. Однако под вопросом оставалась позиция других стран Восточной Европы, прежде всего Польши.
Уступки, сделанные французской дипломатией Германии в 1932–1933 гг., способствовали изменению вектора польской внешней политики. «Со второй половины [1931 – авт.] года маршал [Пилсудский – авт.] приступил к корректировке внешней политики так, чтобы освободиться от патроната Франции и превратить Польшу в ведущую силу в восточноевропейском регионе» [385], – отмечает Г. Ф. Матвеев. В январе 1934 г. без санкции на то со стороны Парижа был заключен германо-польский договор о неприменении силы. Франко-польский союз 1921 г. оставался в силе, но он не учитывал внешнеполитических реалий середины 1930-х гг. и требовал доработки.
С целью выяснения обстановки Барту в мае 1934 г. посетил польскую столицу. В ходе переговоров выяснилось, что «Пилсудский не разделял французской обеспокоенности действиями Германии и не поддержал идеи вовлечения СССР в европейскую политику в качестве конструктивной силы» [386]. Как бы повела себя Франция, получив окончательный отказ Польши от участия в Восточном пакте? Барту не давал четкого ответа на этот вопрос, ограничиваясь предположениями о возможном формате двустороннего советско-французского соглашения. Его гибель в Марселе в результате террористического акта в октябре 1934 г. застала дипломатическую комбинацию незавершенной, но даже в проекте она не отвечала на те вопросы, которые перед французской стратегией ставило нежелание Берлина продолжать политику «в духе Локарно».
Эта непоследовательность, которая характеризовала курс всех французских правительств с 1932 г. вне зависимости от партийной ориентации, обрекала их на реализацию сугубо реактивной политики в отношении Германии. Инерция идей