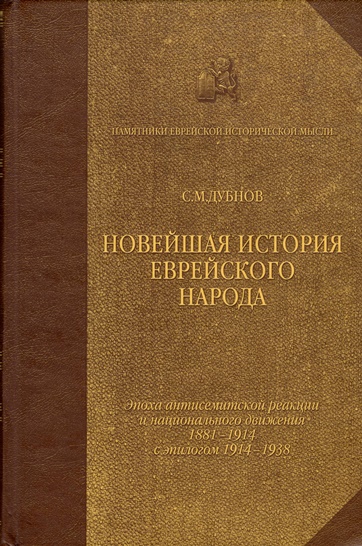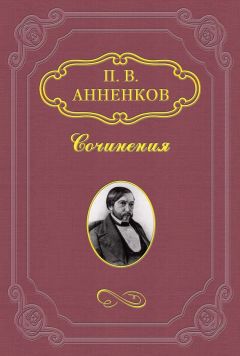костеле Святого Креста в центре города вдруг послышался крик: пожар! Публика бросилась к выходам, и в страшной суматохе было задавлено насмерть 29 человек, а много изувечено. Тревога оказалась ложною: никакого пожара в церкви не было, и все подумали, что это была проделка варшавских воров с целью очистить карманы публики во время давки. Но тут же, среди собравшейся у церкви толпы был пущен слух (впоследствии не оправдавшийся), что в костеле поймали двух евреев, виновников тревоги. Мигом откуда-то раздались свистки, послужившие сигналом к погрому. Городская чернь стала бить проходивших по улицам евреев, а затем начался обычный разгром еврейских лавок, трактиров и жилищ на прилегающих к церкви улицах. Шайки грабителей шли под командою известных в городе воров и каких-то неизвестных лиц, которые по временам давали сигналы свистками, направляя толпу на те или другие улицы. На другой день громили евреев по всему городу, кроме улиц, густо ими населенных, где боялись сильного отпора (в некоторых местах евреи защищались и в драке оказались раненые с обеих сторон). Полиция и солдаты арестовывали многих буянов и отправляли их в участок, но разгонять толпу не решались, и погромщики часто делали свое преступное дело на виду у стражей общественной безопасности. По заведенному шаблону власти только на третий день вспомнили, что пора приступить к усмирению, ибо «урок» уже кончен. 27 декабря войска по приказу варшавского генерал-губернатора уже не допускали скопления погромных банд. Это было сделано слишком поздно, после того как в городе было разрушено и разграблено около 4500 еврейских квартир, торговых помещений и молитвенных домов и ранено 24 еврея; убыток простирался до нескольких миллионов рублей. Было арестовано свыше 3000 громил, среди которых оказалось много малолетних.
Громили вообще подонки польского населения, но среди них часто попадались какие-то незнакомцы, говорившие по-русски, которые, может быть, сыграли роль организаторов. Польские патриоты из высшего общества возмущались инсценированием дикого «русского» погрома в Варшаве. В обращенном к народу воззвании они резко протестовали против мерзких сцен, позорящих столицу Польши; то же сделал католический епископ. Характерно, что варшавский генерал-губернатор в дни погрома отказал в ходатайстве собранию польских граждан, просивших о дозволении учредить гражданскую стражу с ручательством восстановить спокойствие в городе за один день. Официальный обряд погрома не допускал, очевидно, ни малейших отступлений; «беспорядки» должны были происходить в определенном порядке, согласно заповеди: «Два дня громи, а на третий прекращай». Кому-то, по-видимому, было нужно, чтобы польская столица повторила опыт Киева и Одессы, чтобы показать Европе, что погром есть не исключительно русское изобретение.
Так закончился страшный 1881 год, родной брат критических годов еврейской истории: 1096,1348,1391,1648,1768. Больше ста лет прошло со времени последней вспышки гайдаматчины, и снова над полями той же Украины пронесся старый клич: «Бить жидов!» От Киева до Крыма пылал пожар новой гайдаматчины, местами вызванный великорусскими поджигателями. Украинец бил еврея, близкого к нему и сталкивавшегося с ним на экономической почве; пришлый великоросс бил еврея далекого, чуждого ему и потому загадочного, героя темных суеверных легенд. В 1881 г. волна варварства поднялась навстречу еврейскому обществу, устремившемуся в короткую эпоху реформ к гражданскому равноправию и требовавшему себе места в государственной жизни России. Это было в тот самый год, когда в соседней Германии бушевал антисемитизм модернизированный. И там и здесь не желали видеть равноправного, свободного еврея на месте униженного, порабощенного. Еврей поднял голову и — и получил первый погромный удар, за которым последуют еще многие.
§ 15 Эмиграция и погром в Балте (1882)
Под впечатлением варшавского погрома и слухов о готовящихся репрессиях встретило еврейское общество наступление 1882 года. Бедствия еврейских масс будили в правительстве не жалость, а ненависть. Вас бьют, следовательно, вы виноваты — такова была логика правящих сфер. Официальный историограф той эпохи сознается, что при подавлении погромов «вынужденная роль защитников евреев от русского населения тяготила правительство». На представленном царю отчете варшавского генерал-губернатора, где говорилось о прекращении антиеврейских «беспорядков» военною силою, Александр III сделал пометку: «Это-то и грустно во всех еврейских беспорядках». Царь печалился не об избиваемых евреях, а только об усмиряемых и усмиряющих русских людях. Министр Игнатьев не скрывал своих намерений. В январе 1882 г. он заявил д-ру Оршанскому (брату известного публициста) и разрешил опубликовать следующее: «Западная граница для евреев (эмигрантов) открыта. Евреи уже широко воспользовались этим правом, и переселение их не было ничем стеснено. Что касается до возбуждаемого вами вопроса о переселении евреев вовнутрь империи, то правительство будет, конечно, избегать всего, что может еще усложнить отношения евреев к коренному населению. А посему, сохраняя ненарушимою черту оседлости евреев, я уже предложил Еврейскому Комитету (при министерстве) указать на те местности, мало населенные и нуждающиеся в колонизации, в коих можно допустить водворение еврейского элемента без вреда для коренного населения». Опубликованный в газетах ответ министра мог только усилить панику. Евреям публично заявили, что государство хочет от них избавиться, что им предоставляется лишь одно «право» — право эмиграции, что на расширение «черты оседлости» надежды нет и что излишек еврейского населения правительство готово направлять в необитаемые степи Средней Азии или тундры Сибири. Осведомленные люди знали и нечто худшее: что в «Еврейском комитете» при министерстве внутренних дел готовится чудовищный проект о сокращении «черты оседлости» путем изгнания евреев из деревень и сосредоточения их в переполненных городах.
Душа народа была переполнена горечью, а кричать, устраивать политические демонстрации было невозможно. Пришлось прибегнуть к старой форме народного протеста: публичному трауру в синагоге. Многие общины сговорились назначить на 18 января всенародный пост с богослужением в синагогах, по чину траурных дней. В Петербурге эта демонстрация вышла особенно внушительною. В назначенный день в главной синагоге собралась еврейская колония столицы. Читались гимны векового мученичества «селихот», а раввин Драбкин произнес речь о переживаемых бедствиях. «Когда проповедник, — пишет очевидец, — прерывающимся голосом нарисовал то положение, в котором ныне находится еврейство, протяжный стон, как будто из одной груди, вырвался внезапно и разлился по синагоге. Плакали все: старики, молодые, длиннополые бедняки, изящные франты, одетые по последней моде, чиновники, доктора, студенты, — о женщинах нечего говорить. Минуты две-три подряд продолжались эти потрясающие стоны, этот вырвавшийся наружу крик общей горести. Раввин не мог продолжать. Он стоял на амвоне, приложив руки к лицу, и плакал как ребенок». Такие же политические демонстрации перед Богом совершались в те дни во многих других городах, причем местами назначался даже трехдневный пост. Везде учащаяся молодежь участвовала в общем трауре, как бы предчувствуя, что ей