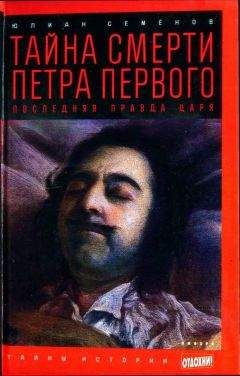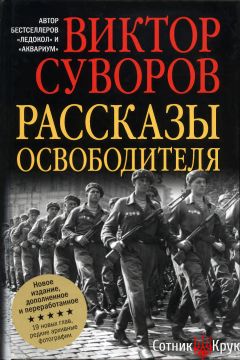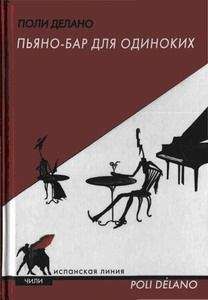- То есть как?
- Они преступники, Елена Казимировна. Террористы. Швырнут бомбу - пойдут на виселицу. А ежели мы их обезопасим сейчас с вашей помощью, они отсидят ссылку и вернутся домой: тех, кто отказался от преступной деятельности, мы не обижаем.
- Вы говорите неправду: социал-демократы отвергают террор.
- А боевые группы-то все ж есть? Есть. До поры до времени отвергают, до поры, Елена Казимировна.
- Даже если это и было бы правдой, я никогда не стану вашей сообщницей в том, чтоб людей прятать за решетку.
- Елена Казимировна, солнце мое, не надо, не след вам так со мной говорить.
- Я могу с вами прервать все отношения и не разговаривать - вовсе.
- Как это?! Прервать? Это теперь нельзя. Мы тех, кто предает, подвергаем суровому наказанию, Елена Казимировна. И бежать вам некуда. Мы ж в Берлине, по тому адресу, который вы дали, одного из ваших товарищей н а щ у п а л и. Провели, так сказать, до границы и посадили в тюрьму. С литературой. Так что пути вам назад нет. Мы ведь рукастые, если станете двурушничать, расписку вашу покажем товарищам и копию письма с тем адресом, по которому ваш знакомый раньше проживал, а теперь к нам переселился.
- Но это же... Это шантаж!
- Это не шантаж, а оформление сотрудничества. А вот нас шантажировать одной рукой им писать, а другой - нам, этого я не позволю. И хотите мой добрый совет получить, Елена Казимировна? Вы себе правду скажите, это не успокаиваю я вас, а открываю глаза: то, что вы нам помогаете, - вы и своим друзьям помогаете. Да, да! Какая горячая голова увлечется, мозги себе задурит разными там идеями, а нам потом его под веревку ставь! Ишь герой! У нас у всех тоже сердца-то есть, не каменные, так сказать. Лучше завиральную идею в начале пресечь, чтобы спасти молодую жизнь, чем упустить из виду болезнь. Что-то главные партийцы сюда не очень ездят, под крылышком у Либкнехта сидят!
- Ездят!
- Кто? - подался вперед Шевяков.
Гуровская молчала.
- Ладно, - сказал Шевяков проникновенным голосом, - рано или поздно вы меня поймете. Я не тороплю, нет, не тороплю... Сами убедитесь, что я прав, когда встретите тех, кто из ссылки вернулся. А тех, кого не уберегли, кто под петлю попал, - о тех пожалеете, поплачете, так сказать, горючими слезами. И о Дзержинском стенать будете: с его-то характером до последнего греха - один шаг. А спасти можно, оттого что здесь он сейчас, в Польше. Постарайтесь помочь нам сохранить ему жизнь. Как на духу повторяю - сохранить жизнь. 18
Возница был угрюмый, с обвислыми усами, одетый, несмотря на жару, в теплую куртку. Подняв воротник, он смотрел в черную ленту дороги и, угадывая камни, колдобины и лужи, сдерживал коня злым окриком.
Дзержинский спал, уткнувшись затылком в уголок скрипучей повозки. Юлия Гольдман, глядя, как затылок его ударялся то и дело об дерево, осторожно просунула ладонь под голову, и Дзержинский, повернувшись щекой, зачмокал во сне, словно младенец. Тень слабой улыбки пронеслась по его лицу, Юлия почувствовала, как он проснулся, хотела было руку убрать, но Дзержинский чуть прижал щекою ее ладонь.
Он любил ее руки еще с времен их первых встреч в Вильне, когда она привела к нему в кружок своего младшего брата, четырнадцатилетнего Леона.
"Теперь уж "товарищ Либер", один из руководителей "Бунда", - подумал Дзержинский. - Помнит ли, что я ему дал псевдоним "Либер" - "Дорогой"? Он всегда, споря с немецкими и еврейскими товарищами, начинал в отличие от остальных не с "геноссе", а обязательно - "либер геноссе", "дорогой товарищ".
Дзержинский помнил ее руки, когда она пришла в тюрьму, на свидание к нему - никто не пришел, лишь она одна, хотя рисковала многим.
Он не мог тогда прикоснуться к ним - смотрел сквозь две решетки, но ощущал глазами, кожей, всем существом своим, как добры ее быстрые, мягкие пальцы, как волнуются они, бегая по сетке, словно по клавишам, когда Юлия играла Шопена.
Сейчас он ощущал ее ладонь, и было сладостно ему, и он не хотел открывать глаза, ибо этика их отношений потребовала бы от него иной - чуть суховатой, подчеркнуто товарищеской - манеры общения с Юлией, а он не хотел этого и не знал, как можно вести себя иначе: с девятнадцати лет по тюрьмам, этапам, ссылкам, нелегальным явкам - когда учиться иному, нежному, когда?
- У вас такое усталое лицо, госпо...
- Ди... - медленно добавил Дзержинский.
- Что?
- "Господи". Договаривайте, если начали. Скоро приедем?
- Через полчаса.
- Можно еще подремать?
- Конечно. Я разбужу. Спите.
- Вам не тяжело?
- Нет, вовсе нет.
- У вас линия жизни долгая, я раньше никогда ее так близко не ощущал.
- О, да...
- И характер покладистый.
- Папа говорил, что у меня мамин характер, - улыбнулась Юлия.
- У мамы был хороший характер?
- Нет. Ужасный. Я ее очень люблю, но характер ужасный. Чудесный человек добрый, нежный, умный...
- Так не бывает.
Юлия молча покачала головой.
- Надо спорить, если не согласны, - сказал Дзержинский, не открывая глаз.
- Вы как филин.
- Я не филин. Я по вашей руке догадался - линии чувствую.
- Спите.
- Хорошо.
- Леон давно не писал?
- Давно.
- Как он себя чувствует?
- Работы много.
- У кого ее сейчас мало?
Юлия тихонько кашлянула, быстро потянулась к сумке, почувствовав, что начинается приступ. Одной рукой сумку было открыть трудно, и она, чтобы не тревожить Дзержинского, сдерживала кашель сколько могла, а потом задохнулась хрипом, и Дзержинский встрепенулся, открыл глаза и увидел ее изменившееся, побелевшее лицо.
Когда приступ кончился, Юлия сказала:
- Простите...
Смутившись своего хриплого, вроде бы испитого голоса, она заставила себя улыбнуться, оправдывающе произнесла:
- Это иногда со мной бывает.
- Чахотка, - сказал тихо Дзержинский. - Давно?
- О, нет, что вы! Это не чахотка. Простуда.
- Так. Туда поедешь ты. Я остаюсь, Юля.
- Феликс, ты же обязан подчиняться дисциплине, - Юлия снова осторожно откашлялась, сохраняя при этом улыбку, и было на это до того больно смотреть, что Дзержинский отвернулся.
Юлия тронула его руку:
- Мне очень неловко перед тобой. Прости, пожалуйста, Феликс.
Возница остановил коней и пробурчал:
- Эй... Приехали.
Юлия тороплиго сказала:
- Здесь надо быстро, Феликс. До встречи.
Дзержинский, по-прежнему не глядя на нее, пожал ее руку, потом взял ту, которой она держала его голову, поцеловал ладонь и молча вылез из повозки.
В корчме Казимежа Новаковского было, как всегда, шумно, пьяно, смешливо какие только люди не собирались в этом маленьком, приграничном с Пруссией польском местечке! Контрабандисты, спекулянты, коммивояжеры, шившиеся вокруг международных поездов, пьянчужки; охотники - в камышах садилось много уток и гусей, по полям можно было т о п т а т ь зайца и фазана; торговцы лесом и рыбой, богатые крестьяне, знавшие р а з н и ц у цен на кружева, чай и ситец в Пруссии и Королевстве Польском, жившем по разлаписто-неуправляемым, туго поворотливым законам Российской империи; жандармы из корпуса, отвечавшие за пограничную стражу, картежники с каменными лицами и с воротничками из жесткого, сероватого целлулоида.
Дзержинский знал, что в одиннадцать часов, когда шум, по словам Винценты, будет отчаянный, когда каждый станет принадлежать только своему столу и своей компании, когда все окутается табачным дымом и хозяин, Казимеж Новаковский, выпьет которую по счету рюмку воды, изображая, что это водка, в корчму войдет маленький, чернобородый Адам, остановится возле пана Казимежа и громко спросит:
- Фазанов мне Владислав не оставлял?
Это был пароль.
Потом Адам должен сесть к вешалке, взяв у пана Казимежа большую кружку с черным пивом, и сделать два глотка. После этого Дзержинский мог подойти к нему и сказать:
- Если у вас будут фазаны, я бы с радостью купил их для моего друга Юровского.
Эта партийная фамилия Матушевского была отзывом: Адам помогал переправлять нелегальную литературу, когда жандармы начинали особенно усиленно ш у р о в а т ь пассажиров на границе.
(- У них есть провокатор, - провожая Дзержинского, сказал Матушевский. Они слишком хорошо чуют запах наших книжек.
- И заграничная агентура, - добавил Дзержинский. - Мы, к сожалению, обращаем на нее мало внимания, а она в Берлине имеет большие связи - товарищи в Александровской тюрьме говорили мне...)
Пробило одиннадцать часов; Адама все еще не было, хотя дым щипал глаза, и Дзержинский с трудом сдерживал подступавший к горлу кашель, опасаясь больше всего, что снова, как там, на островке, в Сибири, ощутит тепло крови и не сможет скрыть ее, а здесь кровь сразу заметят, а откуда чахоточный - это яснее ясного для всех собравшихся: тут каждый второй служит на охранку, полицию, корпус жандармов, железнодорожную службу - сколько их, проклятых этих служб, в России-то?!
"Винценты сказал, что Адам помогает нам не столько за деньги, сколько из-за симпатии, - продолжал думать Дзержинский. - Контрабандист и симпатия к социалистам? Впрочем, вполне возможно: не ради ж интереса он жизнью рискует, таская через реку шерсть, зеркала и шевиот. Дали б человеку возможность кормить семью на честный труд - разве б пошел на преступление закона? Человека всегда подводят к грани; жизненные обстоятельства принуждают его преступить черту - этот Рубикон, обычный, маленький, житейский - пострашнее Рубикона Цезаря. Там - честолюбивое желание властвовать, здесь - старание прокормить семью. Наказывают проигравших и там и здесь одинаково, а какова разница в истоке преступления черты?"