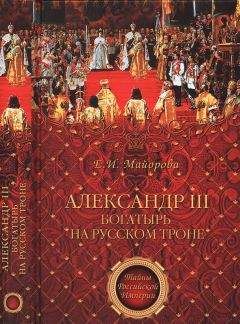Зная непреклонную волю и твердые убеждения великого князя Сергея, Александр III назначил его московским генерал-губернатором — в беспокойной Москве требовался верный человек.
«При всем желании отыскать хотя бы одну симпатичную черту в его характере, я не могу ее найти. Упрямый, дерзкий, неприятный, он бравировал своими недостатками, точно бросая в лицо всем вызов, и давая, таким образом, богатую пищу для клеветы и злословия», — писал о кузене Сергее Александровиче[21] великий князь Александр Михайлович (Сандро).
Для двух своих младших братьев, Сергея[22] и Павла[23], император был скорее отцом, требовательным, но заботливым и добрым. Очень доброжелательно, по-родственному, относилась к ним и Мария Федоровна.
Сказать, что Александр любил своих детей — значит, ничего не сказать. Он испытывал к ним чувство благодарности за то, что они есть, и чувство восхищения этими прекрасными творениями природы. Дети радовали: они были красивы, хорошо воспитаны, приветливы и доброжелательны.
В начале 90-х годов спокойная жизнь царской четы была омрачена беспокойством за второго сына, Георгия. Страшной несправедливостью судьбы оказался недуг этого благородного, смелого и веселого молодого человека. Он заболел практически неизлечимым в то время туберкулезом, и доктора рекомендовали отправить его на юг. Георгия решено было поселить в Аббас-Тумане, почти на границе с Турцией, — там короткие зимы не могли в такой степени, как в России, губительно влиять на его легкие. Мария Федоровна часто навещала своего Джорджи. Сын был смертельно болен, но государственные дела не давали его отцу возможности съездить к нему вместе с женой. Георгий не мог понять и простить этого, как ему казалось, невнимания, обиделся, не писал отцу и даже не поздравил его с днем рождения. В своем кавказском «изгнании» он занялся любимым занятием — астрономией. Здесь по его инициативе была построена первая в России горная обсерватория, со временем приобретшая большую известность[24].
В отсутствие строгой Марии Федоровны самовольничали старшие дети. Александр жаловался в письмах жене: «Ники отправился с утра в Петербург… Что он там делает, как проводит время, я не знаю, а он, если его не спросить, сам ничего не говорит…»
Для детей кончалось детство с его неповторимой атмосферой доброты, справедливости, высоких нравственных идеалов, изысканных манер, взаимопочитания и любви, столь свойственных для той особой среды, в которой они выросли.
Наследник особенно тревожил отца. 24-летний цесаревич влюбился в балерину императорского театра 19-летнюю Матильду Кшесинскую. Он упросил дядю Алексея снять недалеко от его дома апартаменты для Матильды и ее сестры. Теперь, когда он отправлялся к любовнице, можно было отговориться, что навещал дядю. Грациозная, живая, пикантная Матильда очень гордилась этими отношениями. В столице сплетничали, что Николай обещал Кшесинской не жениться в течение по крайней мере двух лет.
Ксения также являлась предметом забот и надежд родителей. Относительно ее замужества вынашивались великие планы — по своему происхождению, красоте и воспитанию девушка была достойна самого лучшего. С годами Ксения как будто охладела к отцу — а он так ждал, когда она подрастет, и они вместе будут ходить на выставки, в театры, на концерты. Но совместные с родителями развлечения совсем не привлекали княжну, у нее началась своя, взрослая жизнь. «Утром поздоровается, вечером “спокойной ночи” — вот и все», — жаловался жене не склонный к сердечным излияниям император. Извечная боль и ошибка старших: подрастающим детям необходимо ощущать себя взрослыми, самодостаточными, и родители кажутся досадной помехой свободе и самостоятельности. Брак Ксении с двоюродным дядей, великим князем Александром Михайловичем, был разрешен скрепя сердце, сквозь скрежет зубовный, но он состоялся в то время, когда император был уже слаб и болен.
Как это часто бывает, родители оказались дальновиднее детей. Несмотря на то что в браке родилось шестеро сыновей и дочь, красавица Ирина, Сандро показал себя непутевым мужем: он постоянно «эмансипировал» Ксению, предлагая ей не мешать ему и самой заводить на стороне романы, а потом обмениваться впечатлениями. Неудивительно, что в конце концов они разъехались.
Пока же самую большую радость дарило императору общение с младшими детьми: Михаилом[25] и Ольгой, по-домашнему Мишкиным и Беби.
«Моя милая душка Минни! Вот я опять в нашей милой Гатчине, и ты не можешь себе представить, до чего я рад и как наслаждаюсь, что вырвался из этого кошмарного Петербурга. Миша и Беби встретили меня на лестнице, и мы сейчас же отправились гулять втроем; я наслаждался, погода отличная, теплая, воздух чистый и главное — тишина, нет этой несносной городской суеты…»
«Пошли гулять с Мишей и Ольгой по Александрии; все в порядке, зелень отличная, дубы распустились и поганых зеленых червяков вовсе нет… После чаю дал Ольге подарки, мы были только втроем с Мишей. Происходило у меня в кабинете. Беби до того была рада и счастлива, что кидалась на меня благодарить несколько раз, а потом от радости валялась на диване и на полу».
В 1891 году в Ливадии императорская чета торжественно отметила 25-летие своей свадьбы. Четверть века радостей и горестей, сложностей, компромиссов — но, вобщем, счастливой жизни. Ни одной измены, ни одного расхождения во мнениях, ни одной серьезной ссоры; ни малейшей тени сожаления, что судьба так непросто их соединила — кто еще из коронованных супругов мог сказать о себе подобное? Собрались родственники из Дании, Греции, Германии, и даже королева Виктория отпустила свою кроткую невестку Александру, принцессу Уэльсскую.
Казалось, впереди еще много спокойных счастливых лет.
Годы с 1892 по 1894-й, как оказалось, последние годы жизни императора, были омрачены не только болезнью почек — как выяснилось позже, нефритом, — но и растущим непониманием между царем и его окружением. Открылись серьезные расхождения между Александром и его старым воспитателем Победоносцевым.
Значение этого человека довольно хлестко определил в своем письме приятелю Константин Леонтьев: «Он как мороз; препятствует дальнейшему гниению, но и расти при нем ничего не будет, он не только не творец, но даже не реакционер, не восстановитель, не реставратор, он только консерватор в самом тесном смысле слова: мороз, безвоздушная гробница, старая «невинная» девушка и больше ничего!!»
Это мнение, по существу, разделял и Александр III, говоривший о Победоносцеве: «… он только отличный критик, но сам никогда ничего создать не может». Возможно, это было связано с тем, что во второй половине своего правления он заметно охладел к Победоносцеву, у которого не было никакой дельной программы государственного переустройства, а только всеобщее злобное критиканство. По своему обыкновению, Победоносцев глубоко вздыхал, жаловался и воздевал руки к небу (его любимый жест). Он не был человеком серьезных планов; его больше интересовали дворцовые интриги, назначения, пресса и цензура. Он не был ни для кого надежным союзником.
В 1886 году обсуждалась мысль о заточении Толстого в Суздальский монастырь-тюрьму. Высшее духовенство по всей стране ополчилось на него, требуя предать его анафеме. К мнению Синода присоединился обер-прокурор Победоносцев. Причиной этого послужили некоторые откровенные высказывание графа Толстого.
«Православная церковь? — писал он. — Я теперь с этим словом не могу уже соединить никакого другого понятия, как несколько нестриженых людей, очень самоуверенных, заблудших и малообразованных, в шелку и бархате, с панагиями бриллиантовыми, называемых архиереями и митрополитами, и тысячи других нестриженых людей, находящихся в самой дикой, самой рабской покорности у этих десятков, занятых тем, чтобы под видом совершения каких-то таинств обманывать и обирать народ».
Однако император Александр III запретил открытое шельмование писателя, хотя у него вызывали отвращение христианско-социалистические теории отшельника из Ясной Поляны.
О Победоносцеве под именем Топорова писал Толстой в своем романе «Воскресенье»: «Как все люди, лишенные основного религиозного чувства, сознанья равенства и братства людей, он был вполне уверен, что народ состоит из существ совершенно других, чем он сам, и что для народа необходимо нужно то, без чего он сам может очень хорошо обходиться. Сам он в глубине души ни во что не верил и находил такое состояние очень удобным и приятным, но боялся, как бы народ не пришел в такое же состояние, и считал, как он говорил, священной обязанностью своей спасать от этого народ.
Так же как в одной поваренной книге говорится, что раки любят, чтобы их варили живыми, он вполне был убежден, и не в переносном смысле, как это выражение понималось в поваренной книге, а в прямом — думал и говорил, что народ любит быть суеверным.