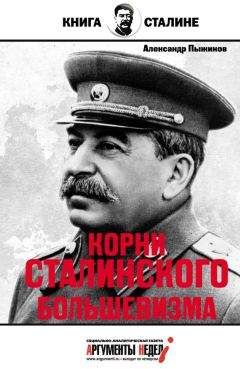А его известные фельетоны образца 1930 года («Слезай с печки», «Перерва», «Без пощады» – о невежестве и ничтожестве России) были объявлены Ю. Либединским не только непревзойденными с художественной точки зрения, но и утверждающими подлинный диалектико-материалистический метод в искусстве[736]. Нельзя не заметить, правда, что упомянутые пролетарские писатели имели далеко не пролетарское происхождение. Однако, это не смущало тех, чье мнение определяло судьбы литературы той поры: заведующих отделом печати ЦК ВКП(б), который во второй половине 1920-х годов поочередно возглавляли И. М. Варейкис и С. И. Гусев (Я. Д. Драбкин).
Данный период оказался очень трудным для всех, кто не пришелся ко двору творческой большевистской элите и ее высокопоставленным покровителям. Так, форменной обструкции подвергся М. М. Пришвин, на которого прочно навесили ярлык реакционера. Его замечательные зарисовки русской природы вызывали неподдельное возмущение. Например, пришвинский рассказ «Медведь», посвященный размышлениям человека об утраченных целостных взаимоотношениях с живой природой, о первобытно-счастливом времени, был раскритикован М. Гельфандом. На дискуссии в Коммунистической академии он назвал рассказ «проклятием в адрес революционной действительности, проклятием, исходящим от тупого, раздраженного филистера, которому «помешали» спокойно и безбедно устроиться на этой планете»[737]. Пришвин приготовился к тому, «что теперь надолго нельзя будет печататься»[738]. Подобные же оценки получал писатель В. Каверин. Очередной его роман «Скандалист, или вечера на Васильевском острове» о питерской научной интеллигенции был назван чуждой и враждебной книгой, мещанским брюзжанием людей, находящихся не в ладу с пролетариатом и крестьянством, игнорирующих классовую борьбу: они, а стало быть, и сам Каверин – охвостье враждебных народу сил[739]. Будущего крупного русского прозаика и мыслителя Л. М. Леонова, чья гениальность уже ощущалась в ту пору, именовали «неким Леоновым», враждебным рабочему классу: ведь он печатался в изданиях, за которыми стоит заграничный капитал[740]. Не избежал критики и Ф. И. Гладков (у него, кстати, в отличие от его оппонентов, было самое, что ни на есть рабоче-крестьянское прошлое). Нарекания вызвал роман «Цемент», чья популярность вызывала недоумение: как могла понравиться такая посредственная вещь?! Конечно, в ней есть все необходимое, но книга получилась несъедобная, поскольку «продукты не сварены и только для вида смяты в один литературный паштет»[741]. Подобные произведения вредны, так как «ничего не синтезируют, а только затемняют основную линию нашего литературного развития»[742]. «Цемент» практически все двадцатые годы оставался вне основного литературного тренда, и это вопреки последовавшим переводам на другие языки[743].
Весьма любопытно, что сложившийся в тот период крепкий антирусский литфронт получил ощутимую пробоину. Причем его идейная монополия была оспорена не кем иным, как самим Л. Д. Троцким. Этот пламенный революционный трибун никогда не проявлял большой любви ко всему, что касалось России, да и в данном случае дело было не в проснувшихся вдруг симпатиях. Просто Троцкий, абсолютно не веривший в какие-либо творческие потенции русского народа, возможность какого-либо их развития считал невероятной. И если Богданову с последователями не терпелось приступить к взращиванию новой пролетарской литературы, то Троцкий считал эту задачу делом далекого будущего:
«Нет, рабочие массы культурно чрезвычайно отсталы; малограмотность и безграмотность большинства рабочих представляет сама по себе величайшее препятствие на этом пути»[744].
Не меньший скепсис вызывал у него и конкретно Д. Бедный: Демьян никакой школы не создал, новых поэтических форм не нашел и использует старые, канонизированные. Он воспитан на том же Крылове, Гоголе и Некрасове и в этом смысле является революционным последышем старой литературы[745]. Новая же литература не появится в ближайшие двадцать-тридцать-пятьдесят лет, а потому говорить о самостоятельной эпохе пролетарской культуры невозможно[746]. Троцкий призывал брать примеры из прошлого:
«Нам нужен, свой «Недоросль», свое «Горе от ума», свой «Ревизор», а значит, пока нужны и те, кто в состоянии изображать нечто подобное»[747].
Чтобы лучше выразить свои мысли, Троцкий использовал применительно к литературе термин «попутчик», возникший на исходе XIX века в хорошо знакомой ему среде немецкой социал-демократии[748]. Однако, этот термин очень скоро стал употребляться в уничижительном смысле: в «попутчики» попали все советские писатели, не вращавшиеся в орбите литературных руководителей 1920-х годов.
Троцкий не только теоретически обосновал необходимость привлечения различных сил к литературному процессу, но и поучаствовал в создании первого литературного журнала страны Советов, вокруг которого группировались многие из тех, кого он назвал «попутчиками». Речь о журнале «Красная новь». К его учреждению в начале 1921 года имел отношение и М. Горький, а первое заседание редакции прошло вообще на квартире В. И. Ленина, проявившего живой интерес к новому изданию[749]. Редактировать журнал стал А. К. Воронский, родившийся в Тамбовской губернии в семье священника и поучившийся в местной духовной семинарии, откуда был изгнан за неблагонадежность. Вступив в 1904 году в партию, Воронский отметился участием в Пражской конференции большевиков 1912 года, а после революции работал в областных газетах Центральной России[750]. Возглавив «Красную новь», он наладил связи со многими известными и начинающими писателями: И. Бабелем, Вс. Ивановым, Л. Леоновым, Л. Сейфулиной, М. Пришвиным, К. Фединым, Е. Замятиным и др. Здесь же предпочитал публиковаться, уехавший в Италию М. Горький. Сам Воронский выступал с критическим статьями, где давал оценки многим писательским опусам, со знанием дела разбирал произведения классиков. Троцкий поддерживал тесные отношения с редактором «Красной нови» и высоко ценил его труды, именуя «лучшим партийным литературным критиком»[751].
Воронский считал величайшей нелепостью попытку «окоммунизировать» советскую литературу в крестьянской стране:
«Мы твердо должны помнить, что огромное количество наших художников – прозаиков и поэтов – неизменно будут привносить в литературу настроения, нам, коммунистам, чуждые, несвойственные. Мы готовы с этим посчитаться, особенно если писатель вознаграждает нас за эти недостатки талантливой и искренней правдой художественного показа. Мы обязаны учесть, что писатель часто бывает политически аморфен, не испытывает особого вкуса к политике, что его не тянет к политической злободневности, что он скроен из иного материала, чем общественник, что, наконец, художественное оформление нашей современности – дело трудное, сопряженное с ошибками, с раздумьями, с сомнениями»[752].
Воронский призывал осознать ценность старой классической литературы, которая в своих лучших образцах звала массового читателя на борьбу с ограниченными собственническими инстинктами, с психологией крепкого хозяина. По его убеждению, от Гоголя до Чехова русское художественное слово служило передовым взглядам своего века[753]. Стоявшая на этой идейной платформе «Красная новь» считала своей главной задачей объединять разных писателей. Недаром за Воронским в середине 1920-х годов закрепилось имя Ивана Калиты, подчеркивавшее его роль в собирании по крупицам советской литературы[754].
Именно вокруг «Красной нови» оформилась группа «Перевал», в которую вошли или с которой сотрудничали многие литераторы того времени. Они стремились поддерживать традиции русского классического наследия, чем сразу вызвали нещадную критику со стороны большевистской элиты. Ее рупор «На литературном посту» не уставал рассуждать о проповедниках несостоятельности пролетариата в культурном строительстве, а именно о Троцком и Воронском, чья практическая линия сведена к выдвижению непролетарских писателей, из-за которых сдаются позиции советской литературы[755]. Как разъяснял Л. Авербах, «корни наших разногласий находятся не только в пределах литературы, но и за ее пределами – в политике»[756]. Связи попутчиков, пригретых «Красной новью», с откровенными буржуазными писателями, с остатками внутренней эмиграции весьма значительны, что не может не тревожить[757]. Далее следовало угрожающее напоминание: «Мы вовсе не поставили в дальний угол столь популярную у наших противников «напостовскую дубину»… она «готова «функционировать», о чем мы и имеем удовольствие довести до сведения…капитулянтов»[758]. И это не были пустые слова. Падение Троцкого повлекло за собой отстранение Воронского от руководства журналом, а затем и его высылку из Москвы в провинциальный Липецк, после чего был учинен полный разгром «Перевала». Участников этого писательского объединения называли мещанскими перерожденцами, которым безразлично марксистское политическое воспитание, а важно «изворотливое, типично мелкобуржуазное по своей трусливости стремление всячески оправдать ошибки, путаницу и колебания тех или иных писателей…»[759]. В силу этого группа «воспринимает революцию именно с ее мучительной стороны, как застывшее противоречие», а «новая полоса больших боев за социализм кажется ей большим кошмаром»[760]. Журнал «На литературном посту» с гневной иронией вопрошал: когда же, собственно, писалась продукция этих творцов в 1928 или 1908 году?[761]Особенно жестким нападкам подверглись идейные лидеры «Перевала» – известные критики А. Лежнев и Д. Горбов. Они разрабатывали схему единой литературы, вход в которую открывается только избранным, при этом отводя себе «роль архангелов, стоящих у ворот рая»[762].