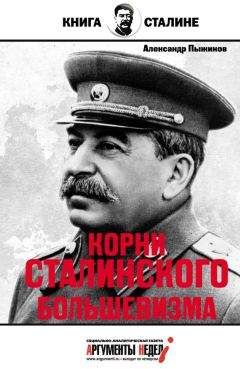Противостояние Воронского и его последователей, с одной стороны, и группы, делавшей ставку на развитие исключительно пролетарской литературы (РАПП) – с другой, является любимым сюжетом современных исследователей[763]. И этот сюжет затмил некоторые другие тенденции, на самом деле имевшие не меньшее, а точнее, гораздо большее значение для развития советской литературы. С середины 1920-х годов в ней появляется все больше кадров из рабоче-крестьянских низов. Конечно, набирающую силу тенденцию бурно приветствовали руководители литературной отрасли, предвкушающие скорую победу над ненавистными «попутчиками». Они с удовлетворением отмечали снижение удельного веса «попутнической» литературы: она теряла «социальный темп и пульс жизни», и ей на смену приходили произведения новых, уже пролетарских авторов[764]. Вообще говоря, этот процесс был вполне естественным, поскольку его определяло резкое изменение «лица» ВКП(б). Партийцы пролетарского происхождения активно проявляли себя во всех сферах, включая и литературную. Неожиданным стало другое: они не собирались мириться с засильем инородческой публики, оспаривая ее монопольное право определять, кого и что следует считать подлинно революционным. Острый конфликт на этой почве произошел в писательской среде уже в 1925–1926 годах. Особая роль в нем принадлежала Дмитрию Фурманову, бросившему вызов литературным руководителям. К этому времени имя автора «Чапаева» и «Мятежа» было достаточно хорошо известно читателям. Однако, «напостовские» вожаки явно не спешили признавать его писательский талант. Если произведения С. Родова, Г Лелевича, Ю. Либединского, А. Безыменского расхваливались сразу же после публикаций, то «Чапаев» удостоился их внимания лишь через год после выхода в свет; причем роман оскорбительно назван всего лишь материалом «тем поэтам и писателям, которые в основу своего творчества кладут революционный эпос»[765].
И все-таки со временем Фурманов попал в тесный круг предводителей советской литературы, с которыми у него и разгорелся конфликт. Здесь нужно обратить внимание на личность Фурманова, его происхождение и формирование. Будущий советский писатель родился в 1891 году в деревне Середа Кинешемского уезда Костромской губернии (ныне Ивановская область) в семье с «крепким домостроевским укладом»[766]. Эти места издавна были старообрядческими – типичный староверческий анклав. Окончив начальную школу, Фурманов поступает в реальное училище г. Кинешмы, где живет вместе с рабочими местных фабрик. Как он вспоминал, большое влияние на него оказала рабочая семья Голубевых: они вели долгие беседы о жизни, распевали волжские песни[767]. Фурманова отличало равнодушие к церкви, переросшее в пренебрежение: «Не верю я этому богу, который одним дает все, а других заставляет всю жизнь мучиться»[768].
Революционная деятельность писателя связана с Иваново– Вознесенском, где он работал с М. В. Фрунзе и откуда с отрядом ткачей уходил на Восточный фронт воевать против колчаковцев, что впоследствии и описал в «Чапаеве». Оказавшись после войны в литературной среде, Фурманов, как истинно русский человек, сразу ощутил узость, кастовость «напостовского» круга. К тому же, эти люди не относились к поклонникам задушевных волжских песен. Главным оппонентом писателя стал Семен Абрамович Родов. «Борьба моя против родовщины – смертельна: или он будет отброшен, или я», – так воспринимал Фурманов это противостояние[769]. И выступил за коренное изменение структуры московской организации пролетарских писателей, чтобы выйти из молчаливого подчинения родовцам[770]. «Напостовство» же он оценивал как «вещь в значительной степени дутую и раздутую; идеология тут зачастую подводится для шику, для большего эффекта, чтоб самое дело раздуть куда как крупно, а чтоб 2-3-5-ти его вожакам славиться тем самым чуть ли не на всю вселенную»[771]. Фурманов ратовал за такое руководство, которое «понимают и принимают широкие массы пролетписателей»[772].
В марте 1926 года Фурманов скончался от очередного сердечного приступа, но его борьба не прошла бесследно: конфликт получил большой общественный резонанс. С. Родов, Г. Лелевич, И. Вардин были выведены из всех руководящих органов пролетарских литературных объединений, хотя на политику в целом это повлияло мало. К рулю встал Леопольд Авербах, который ранее поддерживал «родовцев». При его деятельном участии была учреждена Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП), которая, по сути, проводила прежний курс: выдвижение авторов из рабоче-крестьянской среды. Авербах, уроженец Нижнего Новгорода, пользовался благосклонностью в верхах, поскольку его родная сестра Ида была замужем за фактическим руководителем ОГПУ Г. Г. Ягодой[773]. Случай с Фурмановым вся авербаховская компания расценила как досадную случайность и пребывала в уверенности, что без труда сможет манипулировать новым литературным пополнением.
Тем временем ряды РАПП непрерывно ширились; к писателям из низов предписывалось относиться бережно, помогая им «заработать себе историческое право на гегемонию»[774]. Как свидетельствуют изученные биографии, многие из них вышли из старообрядчества, что прежде оставалось за рамками внимания историков. Известный писатель Федор Панферов был родом с Поволжья. В своих воспоминаниях он рассказывает о родственниках (бабушке, матери, брате, тетке и т. д.), как о ревностных беспоповцах, хотя по официальным документам все они числились правоверными православными. Молодой Панферов и его родной брат Алексей часто помогали староверам читать псалтыри в молельных[775]. В годы советской власти брат Панферова писал, что их матери – Дарье Носковой – имя дали в честь одной местной женщины: она и под кнутом не выдала единоверцев, которых за неподчинение разыскивала полиция. Эту твердость характера, верность своим убеждениям мать вполне передала своим детям[776]. Федор Гладков, также выходец из беспоповцев, умиленно вспоминает молельню, куда он часто ходил с матерью и бабушкой, здесь к нему пришла любовь к музыкальным переживаниям. Пишет он и о поездках с отцом по Волге, где они встречались с работниками «неизбалованными… росшими в старой вере». Когда его отец нанимался на работу, хозяин удовлетворенно заметил: «Хорошо, что от тебя не ладаном воняет. Такой ты мне и нужен»[777]. В той среде жили по принципу: «у нас своя правда, а у богача да попа своя»[778]. И все эти люди казались Феде Гладкову «необыкновенными, загадочными существами, которые таили в себе страшную силу, неведомую другим людям. Все они были похожи друг на друга… шагали тяжело, лица у них были жесткие, бородатые, глаза твердые и зоркие»[779].
Аналогичное происхождение и у видного организатора советской литературы Владимира Ставского. Настоящая фамилия этого уроженца деревни под Пензой – Кирпичников; он начинал трудиться кузнецом на Пензенском оборонном заводе. Ставским же стал после штурма Тифлиса в 1921 году: тогда погиб его товарищ, и будущий писатель взял его фамилию в знак памяти[780]. О Ставском всегда говорили как о человеке «крутом, слишком прямолинейного склада» (и это скоро почувствовали многие в литературном мире[781]). Упомянем и петербургского рабочего Сергея Семенова (1893–1942); он также вышел из староверческой среды и стал писателем. Его происхождение, включая место рождения, неизвестно, что типично прежде всего для согласия бегунов-странников дореволюционной поры. Семенов погиб на фронте в Великую Отечественную войну, и сегодня его помнят лишь немногие специалисты. Необходимо назвать Михаила Чумандрина, Феоктиста Березовского, Николая Кочина, Ивана Макарова и др., к произведениям которых, описывающих генезис староверия после революции, мы еще обратимся.
Поначалу авербаховская компания очень позитивно относилась к их творчеству, осыпая похвалами и благосклонными рецензиями. Чумандрина называли «величайшим художником нашего времени»[782], роман Н. Кочина «Девки» сочли крупной удачей автора[783], роман С. Семенова «Наталья Тарпова» признали блестящим[784], так же как повести В. Ставского[785] и др. Но в центре новой литературы оказался Ф. Панферов, гордившийся тем, что путевку в творческую жизнь ему дал Д. Фурманов[786]. Вокруг романа «Бруски» развернулся невиданный ажиотаж, Панферова именовали «едва ли не самым серьезным писателем эпохи», который сумел показать лицо настоящего, живого, цепкого классового врага в деревне[787]. Рапповские критики уверяли, что эта книга «нащупывает столбовую дорогу пролетарской литературы»[788]. Официальный успех «Брусков» заметили и в эмиграции. Известный критик русского зарубежья Г. Адамович писал, что ни один роман, написанный на русском языке, не имел такого распространения. Тираж книги превысил 600 тысяч экземпляров – рекордная цифра для советской печати[789]. По меткому замечанию критика, «с «Брусками» по существу не спорят: «Брусками» клянутся… цитатами из романа уничтожают противника так же, как ссылками на Ильича»[790].