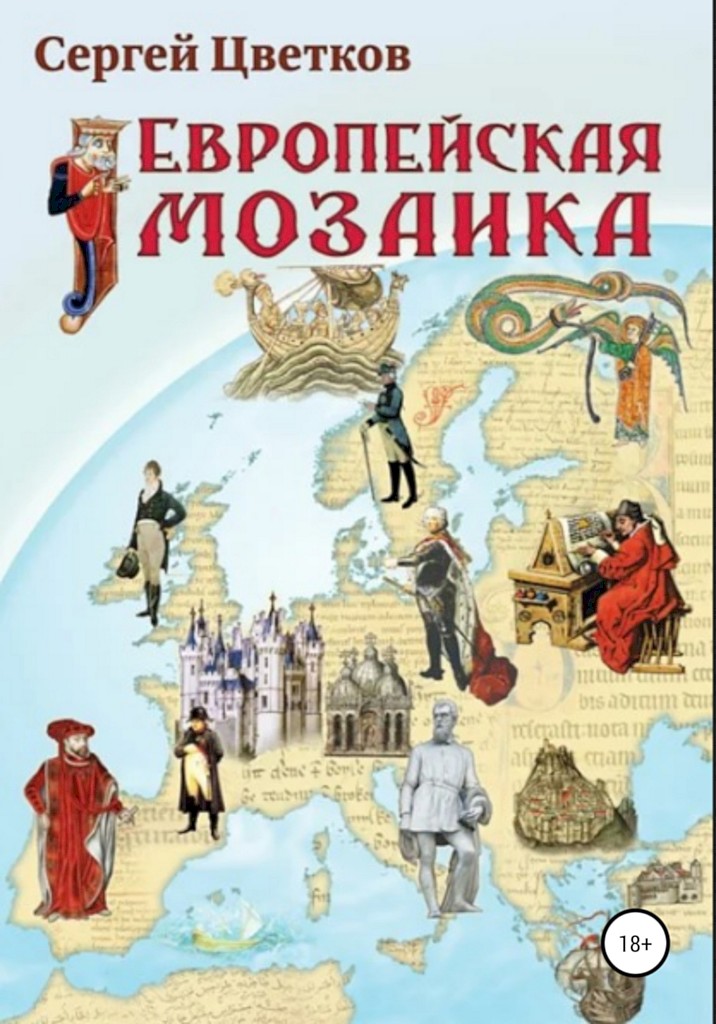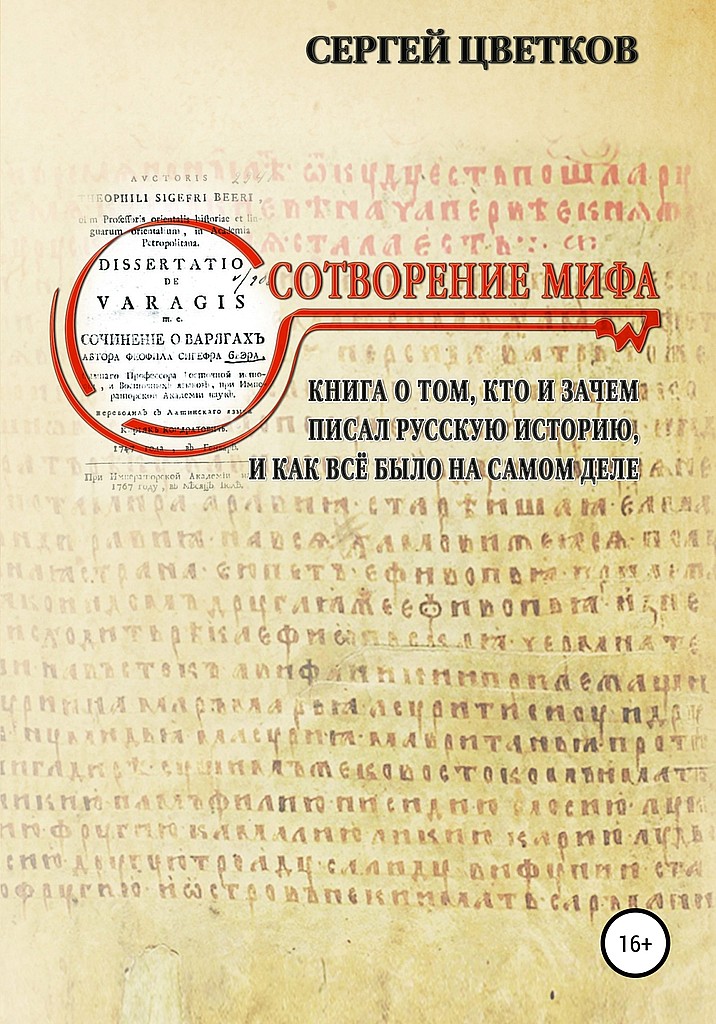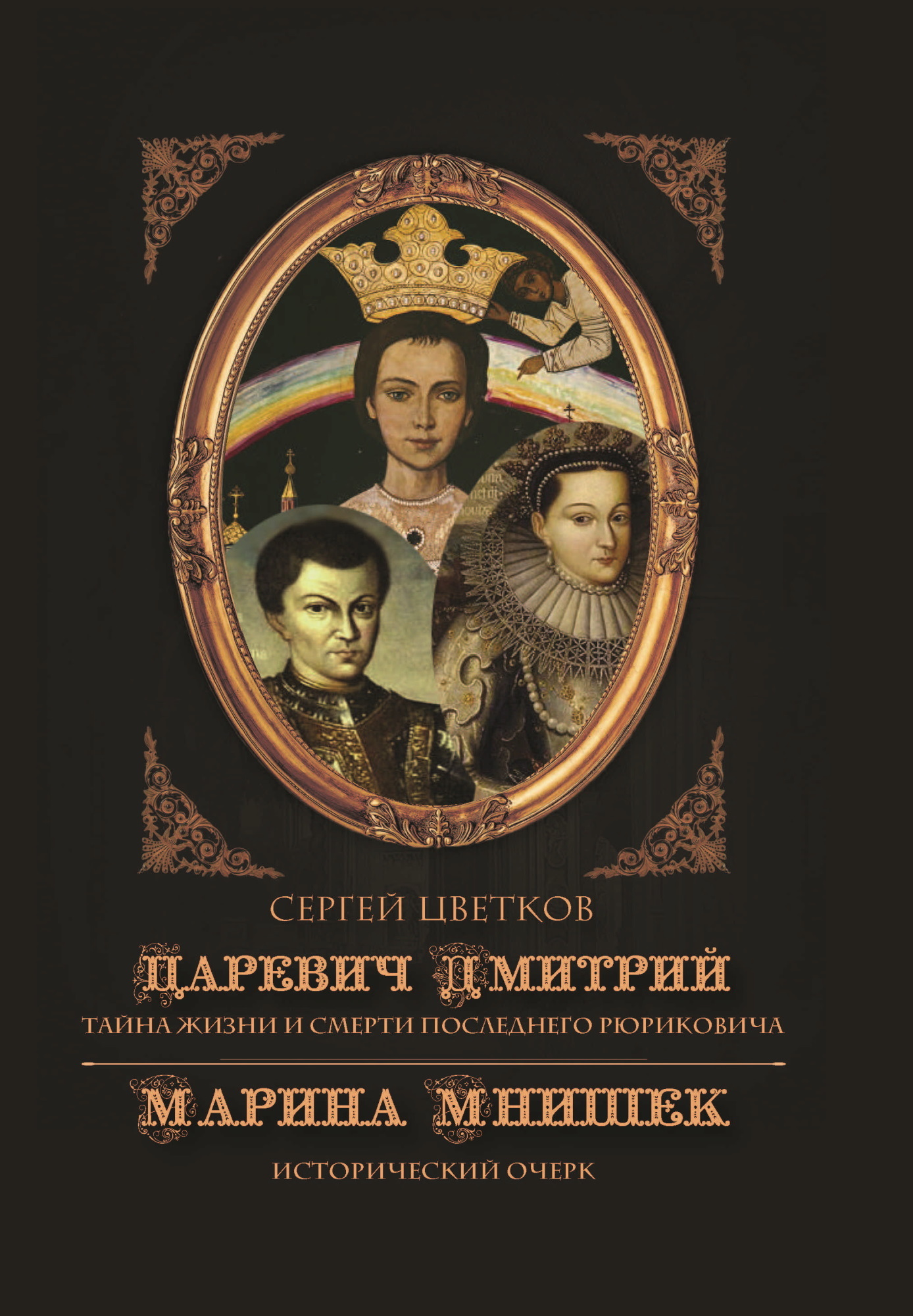так, как другие русские государи, его предшественники. У тех тоже были учителя, и порой превосходные, но ни у кого из них не было в воспитателях такого педагога, как поэт Василий Андреевич Жуковский.
Уже при рождении Александра 17 апреля 1818 года Жуковский словно предвидел уготованную ему судьбу. В стихотворном послании к матери царственного младенца поэт высказал пожелание, чтобы её сын не забыл «святейшего из званий: человек». Тогда он ещё не знал, что именно ему суждено будет пробудить в Александре уважение к этому званию.
Александру было 8 лет, когда его отец, Николай I, предложил Жуковскому должность наставника наследника престола. Жуковский согласился, но с одним условием, что во главу угла будет поставлена не военная подготовка, а гуманитарный курс, изучение отечественной истории. «Государыня, простите мне мои восклицания, — писал он императрице, — но страсть к военному ремеслу стеснит его душу; он привыкнет видеть в народе только полк, а в Отечестве — казарму».
На должности наставника педагогический талант Жуковского раскрылся во всей силе. Он проявил чрезвычайную изобретательность в выборе методик преподавания. Что касается содержания обучения, то вот чему учил поэт будущего монарха: «Владычествуй не силой, а порядком, — истинное могущество государя не в числе его воинов, а в благоденствии народа. Люби народ свой: без любви царя к народу нет любви народа к царю».
Навсегда запомнилось Александру путешествие по России, предпринятое им в 1837 году для ознакомления со страной, которой ему предстояло управлять. Жуковский сопровождал наследника в этой поездке. За семь месяцев они посетили 30 губерний. В Сибири поэт устроил Александру встречу с ссыльными декабристами. В Вятке им рассказывал о богатстве местного края ссыльный Герцен. Под влиянием этих встреч Александр по возвращении в столицу просил отца смягчить участь декабристов, а позже, заняв трон, даровал им амнистию.
Помимо прочего, Жуковский сумел ещё привить Александру горячую любовь к русской литературе. Александр был первый государь, который зачитывался русскими книгами (причём он не любил печатного текста, и книги для него специально переписывались в канцелярии). Особенное впечатление на него произвели тургеневские «Записки охотника». Впоследствии Александр говорил, что эта книга окончательно и бесповоротно убедила его в необходимости отмены крепостного права.
Так что, когда говорят, что литература, дескать, — это праздное баловство, эстетическое развлечение, не имеющее касательства к жизни, то сильно грешат против истины. Александр Македонский, начитавшись Гомера, отправился порабощать другие народы. Александр II, прочитав Тургенева, освободил свой собственный.
Кровавая жатва, или Убитая литература
Слышно страшное в судьбе русских поэтов!
Н. Гоголь
История русской литературы уникальна и трагична. По сути её можно назвать историей изничтожения русских писателей. Двухвековое убийство литературы — весьма незаурядное явление. Конечно, гонения на писателей существовали везде и всегда. Мы знаем изгнание Данте, нищету Камоэнса, плаху Андрея Шенье, убийство Гарсиа Лорки и многое другое. Но до такого изничтожения писателей, не мытьём, так катаньем, как в России, всё-таки не доходили нигде. В этом наше национальное своеобразие настолько своеобразно, что требует какого-то осмысления.
Впервые непростую тему отношений русской власти и русской литературы во всей её остроте поставил В. Ходасевич — в статьях «О Есенине» (Возрождение, 17 марта 1932) и «Кровавая пища» (апрель 1932).
В XVIII веке символом униженного положения русского писателя надолго сделалась фигура несчастного Василия Тредиаковского — первого русского «пиита», которому приходилось многое претерпеть от своих вельможных заказчиков. «Тредьяковскому, — пишет Пушкин, — не раз случалось быть битым. В деле Волынского сказано, что сей однажды, в какой-то праздник, потребовал оду у придворного пииты, Василия Тредьяковского, но ода была не готова, и пылкий статс-секретарь наказал тростью оплошного стихотворца». Сам Тредиаковский излагает эту историю с ещё более унизительными подробностями.
«За Тредьяковским пошло и пошло, — пишет Ходасевич. — Побои, солдатчина, тюрьма, ссылка, изгнание, каторга, пуля беззаботного дуэлянта… эшафот и петля — вот краткий перечень лавров, венчающих „чело“ русского писателя… И вот: вслед за Тредьяковским — Радищев; „вослед Радищеву“ — Капнист, Николай Тургенев, Рылеев, Бестужев, Кюхельбекер, Одоевский, Полежаев, Баратынский, Пушкин, Лермонтов, Чаадаев (особый, ни с чем не сравнимый вид издевательства), Огарёв, Герцен, Добролюбов, Чернышевский, Достоевский, Короленко… В недавние дни: прекрасный поэт Леонид Семёнов [26], разорванный мужиками, расстрелянный мальчик-поэт Палей [27]… и расстрелянный Гумилёв».
«В русской литературе трудно найти счастливых; несчастливых — вот кого слишком довольно. Недаром Фет, образчик „счастливого“ русского писателя, кончил всё-таки тем, что схватил нож, чтобы зарезаться, и в эту минуту умер от разрыва сердца. Такая смерть в семьдесят два года не говорит о счастливой жизни».
«Только из числа моих знакомых, — свидетельствует Ходасевич, — из тех, кого знал я лично, чьи руки жал, — одиннадцать человек кончили самоубийством».
Добавьте к этому десятки первоклассных литературных имён, вынужденных уехать из страны.
Однако появление этого писательского мартиролога, разумеется, не могло состояться без самого непосредственного участия общества. Ведь писатель на Руси — с одной стороны, вознесён в общественном мнении на невиданную высоту, а с другой — презираем как «щелкопёр и бумагомарака».
Лесков в одном из своих рассказов вспоминает об Инженерном корпусе, где он учился и где ещё живо было предание о Рылееве. Посему в корпусе было правило: за сочинение чего бы то ни было, даже к прославлению начальства и власти клонящегося — порка: пятнадцать розог, буде сочинено в прозе, и двадцать пять — за стихи.
Ходасевич приводит слова одного молодого дантеса, который, стоя в Берлине перед витриной русского книжного магазина, сказал своей даме:
— И сколько этих писателей развелось!.. У, сволочь!
Так в чём же дело? В русском народе? В русской власти?
Ходасевич отвечает на эти вопросы так: «И, однако же, это не к стыду нашему, а может быть, даже к гордости. Это потому, что ни одна литература (говорю в общем) не была так пророчественна, как русская. Если не каждый русский писатель — пророк в полном смысле слова (как Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский), то нечто от пророка есть в каждом, живёт по праву наследства и преемственности в каждом,