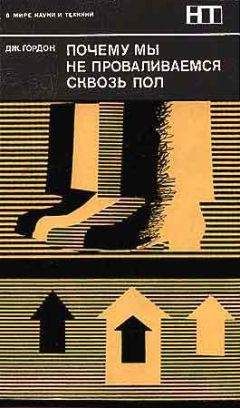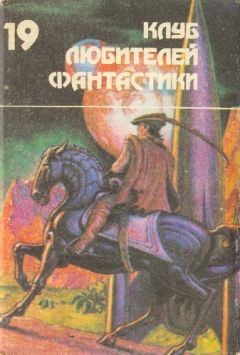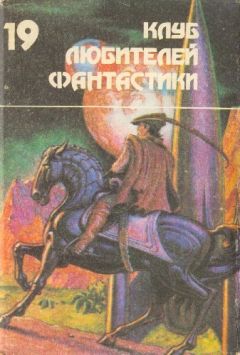до К. Островитянова. Да, политическая экономия – наука обобщающая, абстрактно-аналитическая, но как быть, если тебе нечего обобщать и анализировать, не от чего абстрагироваться? Исторические знания тут отсутствуют, либо мизерны и фрагментарны… Поэтому историки отбрасывают с непочтительным смехом эти сочинения экономистов» [604].
Не добившись признания свой позиции со стороны коллег, Поршнев тем не менее преуспел в научной самореализации. Результатом стало опубликование в 1964 г. монографии «Феодализм и народные массы», куда в переработанном виде вошло все написанное о феодализме в конце 40-х – начале 50-х годов. Учтя обвинение, что он лишает экономический базис определяющей роли в развитии общества, Поршнев обстоятельно подвел под классовую борьбу экономический фундамент, включив в монографию «Очерк политической экономии феодализма» [605].
Сама монография была защищена в марте 1966 г. как докторская диссертация по философии. Академики Ф.В. Константинов, Т.И. Ойзерман, другие специалисты по истмату высоко оценивали вклад историка в теорию формаций; и их поддержка и связи в центральном партийном аппарате имели немаловажное значение для Поршнева, как в дискуссии среди медиевистов, так и позднее, когда он подвергся жесткой критике антропологов, зоологов и представителей других естественных наук.
В столкновении Поршнева с корпорацией медиевистов были не только методологические или психологические компоненты. Поршневу претила фактография, уход в нарратив, в описание источников, особенно, может быть, характерное для этой отрасли тогдашнего советского историознания. И, напротив, поршневская страсть к теоретизированию, к широким обобщениям, игра исторического воображения откровенно раздражали коллег. «Поршнев… был человеком смелой мысли, – признавал Гуревич, – но мысли, которую… приходилось определять как crazy [606] … Он выдумывал совершенные фантомы» [607].
Одним из таких «фантомов» в глазах части коллег-медиевистов была народная Фронда французского «смутного времени» первой половины XVII века. Медиевисты до сих пор размышляют над редким случаем серьезного международного влияния советской исторической науки, столь очевидного, что та пора получила во французской историографии определение «le temps porchnevien». К счастью, не все готовы присоединиться к мнению, что этот эффект был «сродни славе ярмарочного монстра» [608].
П.Ю. Уваров популярность монографии Поршнева [609] во Франции объясняет буквально в двух словах: «соблазнительная простота концепции, железная логика, подкрепленная обильным цитированием источников» [610]. Такая историографическая концепция, надо сказать, тоже впечатляет «соблазнительной простотой».
Cпециалист по народным восстаниям в XVII века Ив-Мари Берсе более красноречив. Он обращает внимание на два порока французских исследований этой темы и этой поры: парижецентризм и политократизм. Иными словами, исследования Фронды во Франции сосредотачивались на борьбе в столице за высшую власть в государстве. И потребовалось, действительно, немало воображения, чтобы, как это сделал Поршнев, показать общенациональное значение локализованных жакерий.
Однако, полагает Берсе, в конечном итоге Поршневу не хватило все же воображения. Вот уж забавный речевой контрданс с Гуревичем! В чем это, по мнению французского историка, выразилось?
В склонности Поршнева приписывать участникам восстаний мотивы и роли «в соответствии с той исторической драматургией, которая представлялась ему плодотворной и жизнеподобной», распределить «героев и статистов, предводителей и жертв» и «для каждого заранее начертить определенную линию поведения» [611].
В сущности, то был общий порок советской исторической науки. И не только советской. Берсе напоминает, что до полноценного утверждения исторической антропологии в форме (ограниченной) «истории ментальностей» оставалось еще десятилетие и для работы с феноменом массового сознания Средних веков и раннего Нового времени не было научного инструментария.
Похоже, Поршнев понимал эту слабость своего подхода, и его поворот к исторической психологии выглядит вполне логичным. Культура не только финансировалась, но и изучалась в ту пору по «остаточному принципу», а сфера сознания – и индивидуального, и общественного – была задавлена «теорией отражения», доведенной до самых вульгарных пределов в духе популярных в те же времена частушек.
Поэтому обращение к исторической психологии выглядело многообещающим и было встречено в профессиональном сообществе с энтузиазмом. Вышел ряд новаторских исследований на тему массовых настроений в различных странах и различные исторические эпохи. При этом методологически концепция Поршнева по ее первой публикации [612] не казалась плодотворной, и отказ Гуревича, который тоже в это время «выходил» к субъектности и в котором Поршнев искал союзника, понятен.
А вот объяснение этого расхождения заслуживает анализа. Гуревича не удовлетворила в книге Поршнева, которую тот представил ему на рецензию, неопределенность источниковой базы [613]. Однако в отношении исторических феноменов массового сознания и массовой культуры и база Гуревича не выглядит обнадеживающей. Арон Яковлевич разделял в известной мере традиционное, «корпоративное» понимание источника, отождествляющее его с документом, письменным актом, принадлежность и дату которого можно фиксировать. Это исключало возможность источниковедческого подхода к фольклору или ритуалу.
«Кесарево кесарю» – поиски Гуревича в исторической антропологии были безусловно неортодоксальными и наталкивались потому на активное сопротивление. И не только со стороны людей, подобных А.И. Данилову или А.Н. Чистозвонову. Критически относился к ним даже С.Д. Сказкин, который некогда вторгался своими исследованиями в сферу средневековой культуры и должен был понимать специфику таких исследований.
Отстаивая – в противовес традиционно господствовавшей в корпорации медиевистов сфокусированности на элитарной культуре – самоценность бытия народной культуры, Гуревич безусловно внес значительный вклад в разработку проблемы [614]. И притом обеднил свое толкование, отказавшись от рассмотрения аграрно-календарной обрядовости, и его критика концепции народного праздника у М.М. Бахтина выглядит в этом отношении показательной.
В общем, противопоставляя историко-психологической концепции Поршнева корпоративно-медиевистский поход, Гуревич, на мой взгляд, обнажил узость последнего в понимании феноменов массовой культуры и массового сознания. В этой сфере уже нельзя было обойтись без обращения к социальной антропологии, развивавшейся в Штатах, или к наследию так называемой формальной школы отечественного литературоведения – к работам В.Я. Проппа, О.М. Фрейденберг, В.Н. Топорова, к изучению мифологического (Е.М. Мелетинский и др.).
Так что противопоставление Гуревича Поршневу с точки зрения абсолютного превосходства первого в работе с источниками меня лично не устраивает. Нет слов, Гуревич основательней и, насколько могу судить по этюду Уварова, безупречно пахал свою «делянку»-аллод, да только она не захватывала всю сферу народной культуры и массового, в ту пору преимущественно крестьянского сознания, а, значит, и упрощала проблематику крестьянских восстаний [615]. Возможно, это и ощущал Поршнев.
Не в его власти было опровергнуть постулат, что бытие определяет сознание, но он стремился раскрыть значение субъективной или, точнее, субъектной стороны исторического процесса. Он никогда не прекращал борьбу против «экономического материализма», «величайшим» пороком которого провозглашая «претензию описать человеческую историю без всего субъективного». «История без психики – это история без живых людей» [616], – утверждал Поршнев, обосновывая необходимость обращения историков к социальной психологии. А непосредственным толчком оказывалась и здесь проблематика социальных движений.
Отталкиваясь от