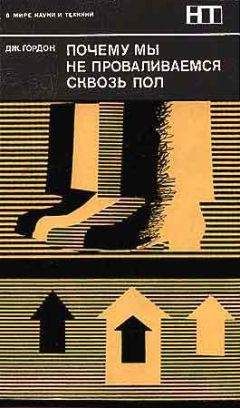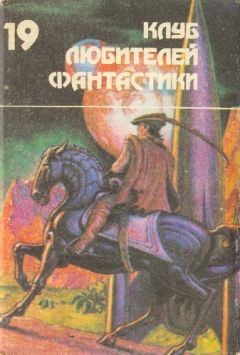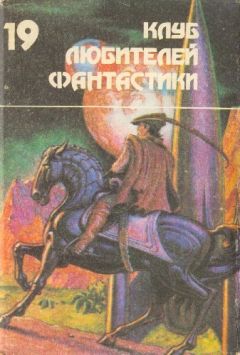Поршнев разделял утвердившуюся в Новое время идею бесконечного совершенствования человеческого общества, «абсолютного прогресса» [663]; и в то же время, вычерчивая траекторию такого процесса, оставался чужд механистическим представлениям. Он не стал прогрессистом, заняв критическую позицию в отношении к реализовавшейся всемирной истории. И лучше всего это демонстрирует тот труд, который он считал главным делом своей жизни – «О начале человеческой истории».
«Эта книга, – написал он во введении, – является извлечением из более обширного сочинения, задуманного и подготавливаемого мною с середины 20-х годов … Первая его часть путем “палеонтологического” анализа проблем истории, философии и социологии должна привести к выводу, что дальнейший уровень всей совокупности наук о людях будет зависеть от существенного сдвига в познании начала человеческой истории … Последняя часть – восходящий просмотр развития человечества под углом зрения предлагаемого понимания начала» [664].
Почему Поршнев, готовя обобщение своего понимания исторического процесса, придавал такое значение Началу и почему он мысленно именовал свое сочинение «Критикой человеческой истории»? «То или иное привычное мнение о начале истории… служит одной из посылок общего представления об историческом процессе. Более того, вся совокупность гуманитарных наук имплицитно несет в себе это понятие начала человеческой истории. Но хуже того, начало человеческой истории … место стока для самых некритических ходячих идей и обыденных предрассудков по поводу социологии и истории. Самые тривиальные и непродуманные мнимые истины становятся наукообразными в сопровождении слов “люди с самого начала”» [665].
Советский ученый занял особую позицию в характерном для европейской мысли со времен Просвещения столкновении мнений о начале человеческой истории. В противоположность построениям Руссо и иных идеологов эпохи «естественное» состояние вовсе не представлялось ему «утраченным раем», однако и идти за Гоббсом с «войной всех против всех» он не собирался. Сформулировав стоящую перед исследователем «доистории» дилемму: «либо искать радующие… симптомы явившегося в мир человеческого разума», либо «искать свидетельства того… от чего мы отделывались» [666], Поршнев провозгласил единственно научным путем познания вторую позицию, сосредоточившись на изживании человечеством своего древнейшего наследия.
«Последовательный историзм ведет к выводу, что в начале истории все в человеческой натуре было наоборот, чем сейчас», – утверждал Поршнев, полагая в основу своей концепции методологический принцип «двух инверсий»: «“перевертывание” животной натуры в такую, с какой люди начали историю», и «перевертывание» этого исходного состояния в ходе истории [667]. Ученый категорически высказывался за качественный скачок при возникновении человеческого рода. Союзником его при этом оказывался Декарт, которому советский историк открыто отдавал предпочтение перед материализмом XVIII в.
«Декарт, – писал Поршнев, – провел пропасть между животными и человеком; чтобы показать особую божественную природу человеческого разума, он выдвинул тезис о машинообразном, рефлекторном характере всей жизнедеятельности животных. Хотя цель была теологическая, результатом явилось великое материалистическое открытие… Французские материалисты XVIII века атаковали это картезианское противопоставление человека и животных… Картезианцам они противопоставляли, с одной стороны, доказательства в пользу того, что и человек – машина… с другой – доводы… в пользу наличия у животных тех же элементарных ощущений и представлений, зачатков того же сознания и разума, что и у человека. Хотя цель была материалистическая, результатом оказались полуидеалистические представления о субъективном мире животных по аналогии с субъективным миром человека» [668].
Советский историк поставил задачей «материалистическое снятие» того, что он назвал «теоремой Декарта» на путях выявления связи между «телесно-физиологическим» и «социальным (в том числе сознанием) в человеке». Но на этих путях ему пришлось столкнуться не просто с привычным (от материалистов XVIII века), а с канонизированном в марксизме (от Энгельса) толкованием антропогенеза. Поршнев в характерном стиле «обошел» классика, сделав вид, что устраняет «формально-логическую» ошибку в понимании классического произведения «Роль труда в происхождении человека от обезьяны» [669]. На самом деле в противовес известному постулату «труд создал человека» позицию Поршнева можно афористично выразить известным библейским выражением «в начале было Слово», и он взял это выражение эпиграфом к своему труду [670].
Признав справедливой религиозную (картезианскую) постановку вопроса о принципиальном отличии человека от животного мира, Поршнев как ученый-материалист пошел тем не менее своим путем. Он бросил вызов сложившемуся разделению труда (особенно отчетливому в XX веке): наука занимается количественными различиями между «человеческим» и «животным», религия – качественными или, в более общей форме, наука признает «научно познаваемыми» лишь количественные различия, оставляя качественные религии (в лучшем случае, философии). Именно на это разделение труда и покусился Поршнев, вознамерившись исследовать естественно-научными методами качественный скачок между животным и человеком.
Уже в первом изложении концепции антропогенеза (1956) Поршнев определил особенность своего подхода: «Порочность всех… попыток вывести специфически человеческую психику из анализа каменных орудий и процесса их изготовления состоит в том, что человек берется лишь в его отношении к вещи …. Прогресс технического отношения индивида к предмету, например, к кремню, сам по себе решительно ничего не может объяснить в возникновении специфически человеческого мышления, ибо генезис этого нового качества лежит в отношении людей к людям, а не к вещам» [671].
Переходом от физиологии животных к сознанию человека Поршнев определил возникновение и развитие речи, точнее, речевой коммуникации. Подчеркивая ее фундаментальное значение в развитии человеческого общества, он доказывал, что именно через речь выражается связь каждого отдельного человека с общностью и со всем человечеством.
Поршнев обстоятельно выявлял формирование самых ранних предпосылок второй сигнальной системы. Привлекая данные этнографии о древних запретах и табу, подчеркивал особое значение запретительных («интердиктивных») сигналов для торможения одной особью биологически полезной деятельности другой особи.
Развитие «тормозной доминанты» оказывалось у истоков речевой коммуникации, присущей человеку. Именно функцию запрета выполняла, – предположил Поршнев, та «пра-речь, которая предшествовала речи-мышлению». Если, по И.П. Павлову, все «мышление» животных выражено в их деятельности, в их двигательных реакциях, то мышление человека, заявлял Поршнев, начинается с торможения двигательных реакций. «Развитие этой новой функции – торможения действий себе подобных …можно предполагать лишь у ближайших предков человека современного типа» [672].
Формирование этого механизма (названного Поршневым «интердикция») среди палеоантропов становилось, по Поршневу, началом «первой инверсии», выделившей проточеловека из мира животных, а с превращением «интердикции» в систему повеления («суггестию», по его выражению) он связывал дивергенцию палеоантропов и неоантропов.
Здесь заключены, я думаю, предпосылки его увлечения «снежным человеком» [673]. Конечно, существование реликтового палеоантропа (живого троглодита) во второй половине XX века открывало бесценные возможности для прямых экспериментальных исследований. Но с теоретической точки зрения было не так уж важно, сохранилось ли это животное до конца XX века, исчезло ли окончательно в XIX веке или, скажем, в первые века нашей эры. Куда важнее было опровергнуть версию,