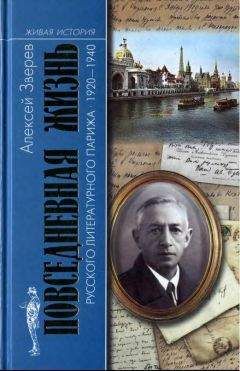О том, что Ходасевич умер, Цветаева если и узнала, то стороной: в московских газетах об этом не было ни слова. Давно прошли времена, когда оставалась возможность, живя за границей, печататься и в отечественных изданиях. Ходасевич так и делал, пока она была. Он не хотел в эмиграцию. Берлин, первый город, где сделали длительную остановку, внушил ему ужас:
В этой грубой каменоломне,
В этом лязге и визге машин
В комок соберись — и помни,
Что ты один.
Это стихотворение 1923 года осталось неоконченным и ненапечатанным, но о том, какие чувства владели Ходасевичем, впервые соприкоснувшимся с Европой после «большой войны» и с эмигрантскими кругами, можно судить и по другим его стихам, навеянным Берлином, а также по письмам, которые он писал в первые месяцы своего заграничного житья оставшимся в России друзьям. Например, вот по этому письму, отправленному через две недели по приезде в Берлин Борису Диатроптову, давнему приятелю, с которым в далекие счастливые времена они любили подурачиться, живя летом вместе в Коктебеле.
«Живем в пансионе, набитом зоологическими эмигрантами… настоящими толстобрюхими хамами, — пишет, едва осмотревшись, Ходасевич. — О, Борис, милый, клянусь: Вы бы здесь целыми днями пели интернационал. Чувствую, что не нынче-завтра взыграет во мне коммунизм. Вы представить себе не можете эту сволочь: бездельники, убежденные, принципиальные, обросшие 80-пудовыми супругами и невероятным количеством 100-пудовых дочек, изнывающих от безделья, тряпок и тщетной ловли женихов».
Коммунизм в Ходасевиче, разумеется, не взыграл. Познакомившись с большевистской доктриной преобразования мира, поработав в Пролеткульте, пройдясь по кремлевскому «белому коридору», где находилась квартира его начальницы Ольги Каменевой, которая возглавляла театральный отдел Наркомпроса, Ходасевич твердо понял, что это учение вызывает у него стойкую аллергию. Но и с эмигрантскими «ненавистниками интернационала» он не ощущал никакой общности. Должно быть, оттого и потянулся к Горькому, хотя как писателя не любил его и ценил слишком низко.
Весной 1922-го Горький жил в Берлине, потом переезжал из одного немецкого санатория в другой, пока через Мариенбад и Прагу не добрался до Сорренто, где, не трогаясь с места, провел четыре года, до первого своего визита в СССР, начавшегося 20 мая 1928-го. Официально он не считался эмигрантом. Надлежало думать, что в Европу его отправили по личному указанию вождя, который проявлял любовную заботу о пролетарском классике. На самом деле, Горький уехал, потому что больше не мог выносить своего бессилия, когда предпринимаемые им попытки остановить террор — защитить интеллигентов, осужденных по состряпанному «таганцевскому делу», воспрепятствовать ликвидации помгола — кончались ничем. Ходасевич вспоминал, как унизительно было для Горького каждое доказательство, что у московских властей «его авторитет… был уже почти равен нулю», как его травмировали звучавшие отовсюду обвинения в бездействии. Его вмешательство в дела, находившиеся в компетенции тех, кто был на самом верху иерархии, надоело аппаратчикам и особенно Ленину, столько уже раз пробовавшему втолковать Буревестнику революции, что его гуманные порывы, протесты против красного террора чужды пролетарскому правосознанию и морали. Под благовидным предлогом — болезнь, необходимость полечиться у европейских светил — Горького фактически выслали из России, но он верил, что лишь на время, пока кремлевские ястребы не угомонятся.
Настроения Ходасевича вначале были почти такими же. Он не забыл, что революция — Февральская, даже Октябрьская — в первые дни внушала ему больше энтузиазма, чем тревоги. Об этом ясно говорят письма поэту Борису Садовскому, с которым он был вполне откровенен. Они спорили: Садовской сразу настроился негативно и непримиримо, а Ходасевичу казалось, что «нынешняя лихорадка России на пользу» и если придется самим «потаскать навоз», это все-таки лучше, чем власть Рябушинских и Гучковых, превращающих страну в «фешенебельный бардак». Так он писал в декабре 1917-го, когда создано и его программное стихотворение «Путем зерна»: оно дало заглавие третьей книге стихов, вышедшей в 1920-м. В Евангелии от Иоанна говорится: «Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода».
Так и душа моя идет путем зерна:
Сойдя во мрак, умрет — и оживет она.
И ты, моя страна, и ты, ее народ,
Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год.
Уже вовсю полыхает Гражданская война, а он в письмах Садовскому все еще упорствует: «Если Вам не нравится диктатура помещиков и не нравится диктатура рабочего, то, извините, что же Вам будет по сердцу? Уж не диктатура ли бельэтажа? Меня от нее тошнит и рвет желчью».
Видимо, от практических воплощений «диктатуры рабочего» его все-таки тошнило еще сильнее. В книге «Курсив мой» Берберова утверждает, будто уехал он только ради нее, а уж потом стало известно, что имя Ходасевича стояло в списке высылаемых на «философском пароходе». Этому трудно поверить, каким бы сильным ни было чувство к начинающей поэтессе, вспыхнувшее в новогоднюю ночь, когда они оказались за одним столиком с Замятиными и Чуковскими. Уже прошло четыре месяца с того трагического августа 1921-го — смерть Блока, расстрел Гумилева, — после которого стало ясно: закончилась, жестоко оборвалась огромная эпоха в истории русской культуры. И ведь не кем иным, как Ходасевичем на годовщине смерти Пушкина в феврале 1921 года, последнем празднике этой культуры, были произнесены слова о надвигающемся мраке, об истекающих часах близости перед разлукой, о жгучей тоске и страстном желании ощутить свое родство с русским гением, потому что, как знать, не утратится ли — и вскоре — всякая связь с ним, а значит, с землей, от него унаследованной.
Когда умер Блок, Ходасевича не было в Петрограде. Скорее всего, при этом известии ему вспомнилась их последняя встреча на тех пушкинских чествованиях, через много лет описанная на страницах «Некрополя», лучшей книги о Серебряном веке. Вспомнилось, что Блок в те дни был печальнее, чем когда-либо, говорил «будто с самим собою, смотря в глубь себя», и словно бы видел «мир и себя самого в трагической обнаженности и простоте». Ни для кого не было тайной, что Блок тяжело болен, однако о характере болезни тогда догадывались немногие. В «Некрополе» Ходасевич написал об этом ясно и точно: «Он умер как-то „вообще“, оттого что был болен весь, оттого что не мог больше жить. Он умер от смерти». Примерно так он понимал случившееся и в те черные августовские дни, по свежему следу написав стихотворение «Из окна»:
Прервутся сны, что душу душат,
Начнется все, чего хочу,
И солнце ангелы потушат,
Как утром — лишнюю свечу.
Берберова думала, что, уехав, они спасли друг друга, — увлеченная Ходасевичем, она бы тоже осталась в Петербурге, а значит, им была судьба погибнуть в колымских лагерях. Так наверняка и вышло бы, и эмиграция уберегла Ходасевича от жребия репрессированных или казненных, но только спасением, если судить по гамбургскому счету, она для него тоже не стала. С первых же дней изгнания он чувствовал, что задыхается, попав в среду, где царят мелкие партийные и бытовые дрязги, пустая болтовня и озлобленность. За «лязгом и визгом», которым заполнился тогдашний Берлин, Ходасевич ясно различал приметы духовного захолустья. «Городок маленький, провинциальный, вроде Тулы, но очень беспокойный», — жаловался он своему доброму знакомому, историку литературы М. Гершензону осенью 1922-го.
В тот год немецкая Тула стала пристанищем для многих очень известных русских писателей от Зайцева и Ремизова до Эренбурга и Пастернака. Кое с кем из них, особенно с Андреем Белым («Он повлиял на меня сильнее кого бы то ни было из людей, которых я знал», — сказано о нем в «Некрополе»), Ходасевич встречался часто, ездил в унылое местечко Цоссен километрах в десяти от столицы, описанное и в мемуарном очерке Цветаевой, еще одной гостьи Белого. Затевал трудные разговоры о главном, о наболевшем и старался не замечать признаков невменяемости, принявшей острые формы перед отъездом собеседника домой, в Москву — внезапным для всех русских берлинцев. Берберова, описывая последние дни Ходасевича, утверждает, что и в канун смерти сквозь муку физических страданий, в бреду он все ждал скорой потусторонней встречи с написавшим «Петербург», книгу, по его ощущению, гениальную. Однако тогда в Берлине нужно было искать какую-то опору, какое-то дело, чтобы явилась возможность не просто остаться, а активно жить в литературе. Тут Белый был явно не помощник. Пути вели к Горькому.
С ним Ходасевич был знаком давно, еще до войны, а в Петербурге ходил на Кронверкский проспект в густо заселенную квартиру, где к тому же вечно толпились посетители с разными жалобами и просьбами, — Горький никому не отказывал. Как-то, случайно оказавшись в Москве, когда Ходасевичу грозила воинская служба, он избавил далекого ему поэта от участи красноармейца, обратившись прямо к вождю. Ходасевич был среди немногих приглашенных на прощальный ужин к Горькому, когда тот уезжал с Кронверкского в Гельсингфорс и дальше в Германию. Эмиграция на время еще больше сблизила двух писателей, у которых было очень мало общего.