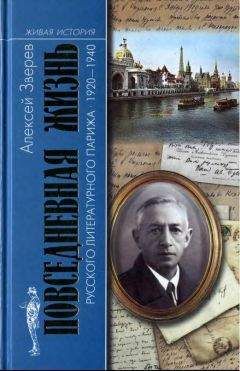Вместе они выпускали «Беседу», толстый журнал, который Горький затеял, надеясь объединить писателей метрополии и эмиграции, исключая экстремистов. Ему дали твердые гарантии, что журнал станет доступным и в России, что цензура проявит сдержанность. Он простодушно полагал, что нет криминала в том, чтобы появилось культурное издание, которое просветит русских людей, «несколько одичавших за восемь лет почти полного отчуждения от европейской жизни». Так Горький писал Герберту Уэллсу, приглашая его участвовать в «Беседе». Ходасевич, отдавая журналу много энергии и сил, тем не менее воспринял эти прекрасные ожидания с большой долей скепсиса — и не ошибся. Ни один из семи номеров «Беседы» (в 1925-м отпечатали последний, сдвоенный) в советскую Россию пропущен не был, хотя в них никто не отыскал бы политического подвоха. Пришлось пустить тиражи под нож Глава цензурного ведомства в записке, которая была направлена «лично т. Ленину», разнес «Беседу» за ее «упадочнические тенденции» и «антиреволюционный пацифизм». Правда, политбюро — уже после кончины т. Ленина — решило не чинить «Беседе» препятствий, потому что ее возглавляет Горький, однако решению не дали хода. Ходасевич резюмировал: «Горького просто водили за нос».
Сам Горький тоже понимал, из-за чего провалилась идея журнала, и говорил Ходасевичу, что «Беседу» решили «не пущать», пока редактор не покается в мелкобуржуазных заблуждениях, а там и вернется с повинной головой. Неудача с «Беседой» только заставила двух редакторов еще отчетливее ощутить, что по крайней мере в литературных начинаниях они не противники, а почти единомышленники. Да все и складывалось так, что они постоянно находились рядом. Были частые встречи в Саарове, в Праге, в Мариенбаде, была зима 1925 года, проведенная на горьковской вилле в Сорренто. Весной, в апреле, Ходасевич и Берберова уехали в Париж. Больше они с Горьким не виделись.
Ссоры не произошло, их развела жизнь. Отношения окончательно испортились три года спустя, когда Ходасевич опубликовал статью «Максим Горький и СССР», проницательно угадав, что вовсе не туберкулез удерживает классика в Сорренто, — классик все заметнее советизируется, однако ему бы хотелось посидеть на двух стульях, не теряя лица перед Западом. И у Горького, и у Ходасевича были советские паспорта, однако горьковский продлевался автоматически, а Ходасевичу той весной 1925 года консул, получивший какие-то указания из Москвы, отказал, сделав его эмиграцию фактом, не подлежащим пересмотру. Горький знал, что рано или поздно вернется; у Ходасевича, очень внимательно следившего за происходящим на родине, вскоре не осталось иллюзий на свой счет.
Горький, как его понимал Ходасевич, был человеком, отличавшимся «крайне запутанным отношением к правде и лжи». Ему хотелось, чтобы непременно все на свете было устроено гуманно и к общей радости. Так не выходило, а Горький не желал с этим примириться, расплывчатыми упованиями ободряя себя и других. Странник Лука, утешающий обитателей ночлежки выдумками о грядущем царстве справедливости и добра, — для Ходасевича именно тот герой, в котором очень много от самого автора. Горький тоже побывал «на дне», был навеки травмирован грубостью реального мира и пытался защититься от нее, избрав для этого возвышенный обман, исподволь, незаметно для него самого принимаемый за безусловную истину.
Трудно представить что-то более далекое Ходасевичу, чем эти фантазии во спасение. Есть у него стихи, которые начаты еще в феврале 1917 года, а окончены только через пять лет, в день, когда все у них решилось с «бедной девочкой» Берберовой. Напрасно Ходасевич думал, что только покажет ей «дорожку, на которой гибнут», и потом заставит повернуть назад, вручив бутерброд, чтобы веселее было на обратной дороге.
Это стихи о младенчестве, стихи о русском чудотворном гении и волшебном языке, подарившем «счастье песнопений». О родине, от которой не отрекаются, даже ненавидя. О воспитании, которое было преподано «не матерью, но тульскою крестьянкой» Еленой Кузиной, няней и кормилицей:
И вот Россия, «громкая держава»,
Ее сосцы губами теребя,
Я высосал мучительное право
Тебя любить и проклинать тебя.
Этим своим правом, пусть оно было и впрямь мучительно, Ходасевич не поступался никогда, ни в чем.
Горькому такая позиция оставалась и непонятна, и чужда.
* * *
В Париж, где по литературным делам Ходасевич побывал еще весной 1924-го, познакомившись с тамошними российскими обитателями, ему не хотелось переезжать насовсем. Из Сорренто он писал Гершензону, что думает о русском Париже «с ужасом», поскольку там эмиграция «все безнадежнее погрязает в чистейшем черносотенстве». Его ничуть не привлекала мысль, что предстоит общение с Бердяевым или Коковцовым, бывшим министром финансов. Они объединили усилия ради Богословского института, который строился на месте немецкой кирхи, ставшей Сергиевским подворьем.
Но больше всего остального угнетала мысль, что теперь он становится эмигрантом без каких бы то ни было надежд сберечь живую связь с Россией. Сознавать это было убийственно. Еще за два с половиной года до того, как открылась последняя, парижская страница его биографии, Ходасевич писал тому же Гершензону из Саарова: «Я здесь не равен себе, а я здесь я — минус что-то, оставленное в России, при том болящее и зудящее, как отрезанная нога, которую чувствую нестерпимо отчетливо, а возместить не могу ничем». И, вспоминая декабриста Кривцова, о котором Гершензон написал небольшую книгу, — на войне, под Кульмом, Кривцов потерял ногу, и в Лондоне ему сделали протез из пробки, — говорил, что теперь тоже вынужден передвигаться словно на искусственной ноге, «а знаю, что на своей я бы танцевал иначе, может быть, даже хуже, но по-своему, как мне полагается при моем сложении, а не при пробковом».
Парижская жизнь делала подобные танцы на пробковой ноге неизбежной будничностью до гроба. С самого начала она не была ни обустроенной, ни благополучной. Приехав 22 апреля 1925 года, Ходасевич и Берберова сразу столкнулись со всеми тяготами эмигрантского быта. Ни денег, ни жилья не было, снимали комнаты в мрачных кварталах — то на рю Амели, то на рю Ламбларди; жили в пригородах: Медоне, Шавилле, а с осени 1928-го — в Биянкуре.
Ходасевич стал писать в «Последних новостях», однако его невзлюбил Милюков — слишком желчен, резок, непредсказуем. «Современные записки» прокормить не могли, и Ходасевич не ради красного словца жаловался их редактору Вишняку: «Из всех писателей я — самый голодный, ибо не получаю помощи ниоткуда». Скрепя сердце пришлось идти в газету сторонников Керенского «Дни», еле державшуюся из-за постоянной нехватки средств, а затем, в феврале 1927-го, — к Гукасову в «Возрождение».
А. О. Гукасов был нефтепромышленник, богач, приверженец явно правых взглядов — вплоть до монархизма. В дела газеты, которая была основана на его деньги, он не вмешивался чересчур активно, однако с самого начала определил, что ее позиция должна быть консервативной. Это отвечало и взглядам редакторов — Струве, давно позабывшего о «легальном марксизме», которым увлекался в юности, и близкого к масонам Ю. Ф. Семенова. Он занял кресло Струве в тот год, когда Ходасевич стал штатным сотрудником «Возрождения», и возглавлял газету до ее закрытия с приходом немцев.
Струве, человек несопоставимо более широких понятий, чем Семенов да и Гукасов, старался привлечь в свое издание либерально настроенных авторов, даже если им осталась чужда объявленная Струве программа: «Освободить и освободиться, дабы возродить и возродиться». Он мечтал сплотить духовные силы зарубежья, при этом особенно полагаясь на литературный отдел, где не должно было сказываться политическое размежевание. Это не устраивало издателя, упрекавшего Струве чуть не во всеядности и корившего редакцию за снобистское высокомерие, которое отталкивает «рядового читателя». Назначенный Гукасовым Семенов со всем этим покончил, потребовав, чтобы проводимая газетой линия рельефно проступала в каждом ответственном материале.
Эта линия и вообще имперская идеология, насаждаемая «Возрождением», не вызывали у Ходасевича симпатий. Однако в своем отделе он оставался достаточно свободен, чтобы избежать столкновения с Семеновым на общественной почве. Выигрыш был в том, что газета, по своему значению и влиянию едва ли в чем-то уступавшая «Последним новостям», каждый четверг оставляла место для большой, подчас на целую полосу, статьи Ходасевича, который мог писать о том, что считал существенным: откликаться на книжные новинки, спорить с оппонентами, затрагивать острые темы, касавшиеся положения писателей в эмиграции и в советской метрополии, обращаться к классике, черпая из ее опыта аргументы в поддержку своей литературной позиции. Для прирожденного критика, каким Ходасевича запомнили еще в России, такая возможность дорогого стоила. Но статью требовалось готовить к каждому четвергу — и так, практически без перерывов, двенадцать лет, до самой смерти. А безденежье заставляло работать и для других изданий, просиживая за письменным столом часами, даже когда для этого не было ни сил, ни энтузиазма.