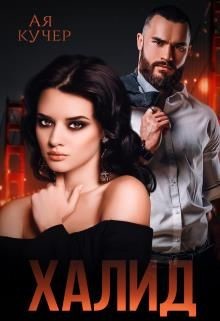реформу [Babajanov, Islamov, 2013: 233–263].
Но фетвы были отнюдь не самым подходящим идеологическим инструментом в глазах большевиков, которые стремились приучить массы, так сказать, думать по-большевистски. Для выполнения этой задачи предназначалась программа политического просвещения (политпросвета). За пределами городской России целью ее было ни больше ни меньше как привить населению новый образ мышления, чтобы люди воспринимали политику в категориях и терминах нового режима. Политпросвет требовал осуществлять «массовую работу» по всей стране, однако сосредоточивать особое внимание на тех группах, которые должны были стать основной опорой партии. Еще бушевала Гражданская война, а Советы уже отправляли на территории, недавно завоеванные Красной армией, агитационные поезда и речные суда. В 1920 году в Средней Азии несколько месяцев провел поезд «Красный Восток». Он вез листовки и брошюры, демонстрировал короткие фильмы и пьесы [390]. В течение следующих нескольких лет мудрость партии и ее решений пропагандировалась среди общественности посредством публичных лекций, красных чайхан, политических клубов, читален, театра и кино. Замыслы были поистине грандиозные и обычно выходили за рамки наличествующих ресурсов.
До национального размежевания усилия политпросвета приносили лишь скудные результаты, в особенности потому, что содержание соответствующих учреждений зачастую принудительно перекладывалось на бюджеты местных органов власти, профсоюзов или союза «Кошчи». Красные чайханы были задуманы как очаги политической мудрости, где посетителей будут приветствовать плакаты и газеты. Однако многие из них коммерциализировались и стали неотличимы от обычных чайхан [391], читальни и библиотеки находились в плохом состоянии, лекций проводилось ничтожно мало. Однако в 1926 году хлынул мощный поток нового материала (планов, учебных программ для политических клубов и комсомольских курсов, текстов для агитаторов и всевозможных революционных пьес, переведенных с русского, татарского и азербайджанского языков), по крайней мере, сделавший такую работу возможной, в то время как конференции политпросветовцев пробудили энтузиазм вокруг этой темы [392]. Политпросвет был связан с кампанией ликвидации безграмотности, без которой «ни о какой культурной работе и помыслить нельзя» [393]. Как и государственное строительство на низовом уровне, ни одна из этих инициатив не была отмечена блестящими успехами, и все же в партии ощущалась атмосфера нового начала и новых возможностей. Очередной тур выборов в 1926 году сопровождался агитационной кампанией, опиравшейся на свежие, специально созданные или переведенные материалы. Агитаторы разъезжали по сельской местности и проводили собрания, в том числе отдельно для женщин [394]. В качестве главных достижений они указывали на главенствующую роль советской власти в борьбе с басмачами и восстановлении экономики, перспективность земельной реформы и развитие хлопководства («наиглавнейшего источника благосостояния дехкан» [395]). Результаты редко удовлетворяли власть, но такие выборы являлись знаком новой формы присутствия государства в деревне.
Коренизация была обусловлена потребностью большевиков подчеркнуть отличие советской власти на нерусских окраинах Российской империи от предыдущего, царского правления. «…Дьявольски важно, – писал в 1921 году Ленин, – завоевать доверие туземцев; трижды или четырежды его завоевать; доказать, что мы не империалисты, что мы уклона в эту сторону не потерпим» [396]. Нерусские народы нового Советского государства должны были считать советскую власть своей. Советскую власть надо было «коренизировать». Коренизация предоставила официальные полномочия для выдвижения национальных элит и национальных языков в нерусских регионах советского государства. Однако реакция русских, проживавших в национальных республиках, всегда была сложной. Такая политика воздвигла театр надежд коренных народов и сопротивления европейцев, в котором разыгрывалась драма культурной политики раннесоветского периода [Мартин 2011].
В Туркестане коммунисты-мусульмане с энтузиазмом взялись за реализацию ключевых положений политики коренизации. Уже в 1918 году «тюркский» язык был объявлен государственным. В январе 1923 года туркестанское правительство предприняло скоординированные усилия по переводу официального делопроизводства на местные языки. Циркуляр Туркестанского Совнаркома за подписью С. X. Ходжанова предписывал всем народным комиссариатам вести официальную переписку на «местном языке» (то есть на языке, преобладающем в той местности, где располагается ведомство), а ТурЦИК постановил, чтобы каждое учреждение начиная с уездного уровня наняло по меньшей мере одного сотрудника, умеющего вести переписку на местном языке [397]. Кроме того, коренизация продвигала инвестиции в создание новых педагогических учебных заведений и исследований на местных языках. Национал-коммунисты также увидели в политике коренизации обещание экономического развития, рабочих мест, социальной мобильности и ощущение главенства национальности. Видные коммунисты-мусульмане придавали коренизации большое значение и лично участвовали в ее осуществлении. Они наводнили местную прессу сообщениями о невыполнении целей программы и случаях плохого обращения с местными жителями со стороны чиновников-европейцев. Ссылаться на колонизаторство уже не приходилось, но оставалось еще много поводов для жалоб на поступки отдельных лиц и учреждений.
Политические цели коренизации зачастую вступали в противоречие с экономической эффективностью. Коренизация обходилась недешево, поскольку требовала найма дополнительных сотрудников для перевода документации, обучения туземцев новым профессиям, а европейцев – местным языкам. Она была введена как раз в тот момент, когда многие расходы с введением нэпа были переложены на местные бюджеты. Представителей коренных национальностей предписывалось нанимать в качестве практикантов, но на это выделяли очень мало бюджетных ассигнований. Напрашивался очевидный довод против коренизации и в пользу экономической целесообразности: практиканты снижают производительность труда. Его часто выдвигали рабочие-европейцы, преобладавшие в небольшом промышленном секторе. Например, в 1925 году среди служащих Среднеазиатской железной дороги коренными уроженцами являлись лишь 8,5 %. Русский автор официального журнала Средазбюро признавал, что господство на транспорте обеспечило европейцам стратегическое засилье в регионе и внушило собственническое отношение к новому строю, от которого они не желают отказываться [398]. Государство, со своей стороны, остро сознавало, что русский «пролетариат» региона является, как сказано в постановлении Политбюро 1920 года, «главной опорой Республики», от которой нельзя отказаться. Меры Советского государства по перераспределению и достижению этнического равноправия встретили решительную оппозицию со стороны европейского населения. Задействовав весь спектр борьбы, от умышленных проволочек до громких публичных протестов, сопротивляющиеся позаботились о том, чтобы основные устои дуалистичного среднеазиатского общества, пережив революцию, остались практически незатронутыми. Приоритет, которым пользовались при найме на работу коренные жители, порождал колоссальное недовольство среди русских и других европейцев. Этнические конфликты являлись отличительной чертой среднеазиатской политики начиная с 1916 года, но преимущество местных при найме спровоцировало новый всплеск возмущения у европейцев. В довершение всего, начало коренизации совпало с разгулом безработицы, что чрезвычайно обеспокоило европейский пролетариат Средней Азии [399]. Под недовольством всегда скрывался расизм с его установкой на изначальную неполноценность туземцев. Как выразился начальник участка строящейся Туркестано-Сибирской магистрали (Турксиба), «казахи очень непутевые рабочие, из которых никогда ничего не выйдет. Из них никогда не вырастет пролетариат» [400]. Проблема заключалась в собственническом отношении к революции, строю и региону.