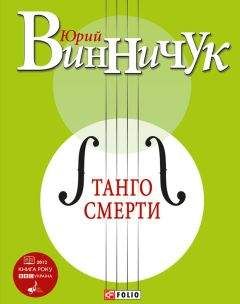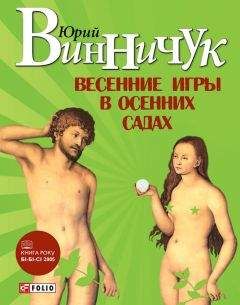Плиний Младший вспоминает, как он унимал некоего сурового отца, который «бранил своего сына за то, что тот немного переплатил за лошадей и собак» (вечный мотив!). «Послушай, — сказал ему Плиний, — разве ты никогда не делал того, за что тебя самого мог бы поругать твой отец? Делал ведь! И разве иногда ты не делаешь того, в чем твой сын, если бы вдруг он стал твоим отцом, а ты сыном, не мог бы укорить тебя с такой же суровостью? Разве все люди не подвержены каким-нибудь ошибкам?» (Там же, IX, 12).
В комедии Плавта «Эпидик» отец сам задумывается над своим отношением к сыну:
Не для лица бы только нужно зеркало,
Но также и для сердца, чтоб, смотря в него,
Увидеть, что таится в глубине души.
Всмотрись получше, а потом задумайся,
Как жил когда-то сам ты в ранней юности
(Полезно это было бы, по-моему).
Вот я давно терзаться из-за сына стал…
А в молодости много и за мной самим
Проступков наберется…
Плавт. Эпидик, 381–392
Но и молодой человек, получивший хорошее воспитание, однако начавший под влиянием своих соучеников слишком смело пользоваться свободой и проматывать отцовское добро, способен опомниться: его тревожат перемены, происходящие в его характере. Так, например, критически оценивает себя юноша из комедии Плавта «Привидение»: дом, даже хорошо построенный, обращается в развалины, когда жильцы о нем не заботятся, так и молодой человек, хотя и получил прекрасное воспитание, сам, едва представился случай, стал растрачивать отцовское достояние на кутежи и интрижки:
Во-первых, родители — вот кто строитель,
Они для детей воздвигают фундамент,
Возводят, старательно ставят все скрепы,
На всеобщее благо, народу в пример.
Ни сил не жалеют своих, ни достатка.
Расход не в расход для себя полагают.
Отделка — ученье наукам, законам;
Труды, издержки снова.
А все затем, чтоб дети их могли служить в пример другим.
Когда ж идти на службу им военную, кого-нибудь
Опорой из родни дают.
Тогда из рук строительских выходят, а прослужат год,
То видно уж на опыте, постройка хороша ль была.
Так-то вот я и сам дельным был, честным был
До тех пор, как в руках был своих мастеров,
А потом, только лишь стал своим жить умом,
Я вконец тотчас же погубил весь их труд.
Лень пришла. Мне она сделалась бурею,
И ее тот приход мне принес град и дождь.
Честность всю, доблесть он
Сбил с меня, прочь сорвал сейчас же. А потом
Вновь себе их вернуть — этим я пренебрег.
И вслед за тем любовь пришла, как дождь, проникла
В грудь мою,
Прошла до самой глубины и промочила сердце мне.
И меня вместе с тем бросили слава, честь,
Деньги, доблесть, и для жизни стал гораздо хуже.
И балки здесь от сырости гниют, и дома, кажется,
Мне своего не починить, чтоб весь он не обрушился:
Погиб фундамент, и никто не может больше мне помочь.
Плавт. Привидение, 120–148
Впрочем, у Плавта это мотивы скорее второстепенные. Теренций же две свои комедии — «Самоистязатель» и «Братья» — посвятил преимущественно проблемам воспитания — проблемам, которые целые столетия не могли разрешить.
В Риме также существовали молодежные организации, начало которых следует искать во II в. до н. э. Организации эти были известны в Италии под названием «Ювенес» или «Ювентус» — «молодые», «молодость», а в провинции — «Ювентус» или «Коллегиум ювентутис». Расширение их сети было связано с возникновением все новых школ в городах империи: в Медиолане (Милан), Аугустодунуме (Отэн), Бордигале (Бордо), Карфагене, Антиохии и в других. Организация напоминала до некоторой степени афинскую эфебию раннего периода, однако было и принципиальное различие: принадлежность к римской молодежной организации была добровольной, а не обязательной, как в Афинах. Кроме того, организация «Ювентус» и ей подобные основывались на началах коллегиальных и не имели специально назначенной администрации. Во главе группы стоял магистр — префект или куратор; упражнения и иные занятия не носили военного характера. Одинаковое значение придавалось развитию и интеллектуальных, и физических способностей. Полного расцвета эти организации достигли в эпоху ранней империи, когда муниципальная аристократия городов была важной опорой государственной власти. С победой латифундиального хозяйства, упадком городов и городского самоуправления падало и значение молодежных организаций.
Девочки из богатых семей учились дома, те же, кто победнее, ходили в школу вместе с мальчиками. Существовало, таким образом, совместное обучение с обязательной общей программой. По свидетельству Тита Ливия (От основания города, III, 44), уже в V в. до н. э. с расширением программы, а вернее, с введением двухступенчатой системы образования, когда развернули свою деятельность грамматики, женщины также начали расширять свои познания, обучаясь, однако, дома. От девочек же образованность и начитанность даже требовались: «пуэлла докта» — «ученая девица» — было желанным комплиментом. Образование было необходимо женщинам прежде всего для участия в общественной жизни, в частности в общих собраниях граждан. Кроме того, девушки должны были, как на том настаивали Квинтилиан и другие дидактики, заботиться о своем интеллектуальном развитии и как будущие матери, ведь непременным условием обучения ребенка было обучение его родителей (Квинтилиан. Воспитание оратора, I, 1, 6). Плутарх предъявлял к женщинам довольно высокие требования: они обязаны были разбираться в астрономии, математике, философии.
В последние годы республики, а тем более позднее, в эпоху принципата и империи, было уже много образованных женщин. В эпитафиях в перечне достоинств усопшей часто упоминают и ее ученость: «докта», «артибус докта» и т. п. Говоря об образованных женщинах, писатели не видят в этом явлении ничего исключительного, необыкновенного. Мы узнаем, например, что Корнелия, жена Помпея Великого, зачитывалась сочинениями философов и была весьма сведуща в географии. Семпрония, замешанная в заговоре Каталины, хорошо знала греческий язык. Ливия, жена Августа, обладала таким интеллектом, что сам Август перед особенно важными разговорами с ней делал для себя специальные заметки, желая иметь заранее подготовленные ответы, дабы не быть застигнутым ею врасплох. Наконец, Агриппина, мать Нерона, оставила воспоминания, которые, по-видимому, представляли собой известную ценность, если ими пользовался такой историк, как Тацит (Анналы, IV, 53).
Обучались женщины и ораторскому искусству и даже прибегали к этим познаниям и навыкам на практике, чаще всего в своих личных, домашних делах, но иногда и в делах общественных: Гортензия, дочь оратора Квинта Гортензия, своим красноречием добилась снижения налогов, установленных для женщин. Выступления же римских матрон по своим частным делам общественное мнение осуждало: считалось, что это свидетельствует о чрезмерной дерзости, даже о нахальстве. Именно так оценивает Валерий Максим выступление в суде некоей Афрании, жены сенатора, которая в ходе процесса сама обращалась к претору, и отнюдь не потому, что не в состоянии была нанять адвоката, а просто от своего «нахальства». Щеголяние женщины своими познаниями бывало иной раз подлинным бедствием для общества, как это описывает Ювенал:
Впрочем, несноснее та, что едва за столом поместившись,
Хвалит Вергилия, смерти Дидоны дает оправданье,
Сопоставляет поэтов друг с другом: Марона на эту
Чашу кладет, а сюда на весы полагает Гомера.
Риторы ей сражены, грамматики не возражают,
Все вкруг нее молчат, ни юрист, ни глашатай не пикнут,
Женщины даже молчат, — такая тут сыплется куча
Слов, будто куча тазов столкнулась с колокольцами.
…
Пусть та матрона, что рядом с тобой возлежит, не владеет
Стилем речей, энтимемы кудрявые не запускает
Средь закругленных словес и не все из истории знает,
Пусть не поймет и из книг кой-чего; мне прямо противна
Та, что твердит и еще раз жует Палемона «Искусство»,
Вечно законы блюдя и приемы правильной речи,
Та, что древность любя, неизвестный нам стих вспоминает…
Ювенал. Сатиры, VI, 434–441, 448–454
Об обучении рабов Сенека писал, что их следует кормить и одевать, но давать ли рабу такое же образование, как и свободному, — это целиком зависит от доброй воли его господина (Сенека. О добродетелях, 3, 21, 2). Среди людей, попадавших в Рим в качестве невольников, захваченных на войне или купленных, было немало образованных людей, особенно греков. Были между ними и такие, которые, благодаря врожденным способностям, интересам и собственным усилиям, пополняли свои познания и дальше, достигая подчас очень многого. Помимо тех, кто в совершенстве овладевал латинским языком, были также некоторые рабы, прямо занимавшиеся в домах своих господ работой, которую мы бы назвали интеллектуальной, исполняя функции секретарей (как Тирон у Цицерона), библиотекарей, даже управляющих поместьями. Иные выделялись своими литературными и научными трудами: достаточно вспомнить, что начало римской литературе положил Андроник, грек из Тарента, который, обретя свободу, оставил свое имя в анналах римской поэзии как Ливий Андроник. Он перевел на латынь «Одиссею» Гомера, писал по греческим образцам трагедии и комедии, создал хоровую песнь к религиозному празднеству. Не менее любопытна карьера Реммия Палемона, известного грамматика, работавшего в Риме в I в. н. э., учителя Квинтилиана и поэта Персия. Сын рабыни, Палемон, как предполагается, был поначалу ткачом, затем рабом-педагогом, сопровождавшим сына своего господина в школу. При этом он самоучкой приобрел образование и, получив свободу, уже как Реммий Палемон начал давать уроки и стал одним из наиболее выдающихся учителей-грамматиков в Риме. Также и Гигин, вольноотпущенник Августа (отсюда его имя: Гай Юлий Гигин), должен был располагать соответствующими знаниями, если заведовал библиотекой на Палатине и писал о грамматике, о римских древностях, а кроме того, трактаты по сельскому хозяйству (все эти труды не сохранились). Находились и другие дела для образованных рабов. Известно, что они имели самые разнообразные специальности, а после того, как их отпускали на волю, даже занимали, особенно в эпоху империи, видные должности в государственном управлении. Рабы, как уже говорилось, преподавали в начальных школах, учили музыке, стенографии, были архитекторами. Нет сведений только о рабах-юристах.