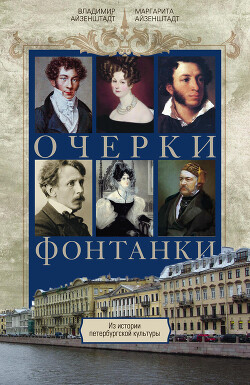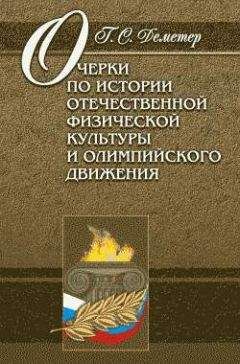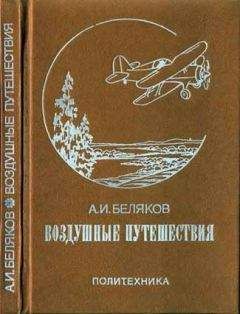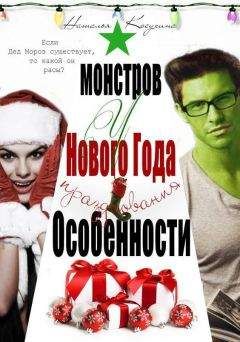В 1861 году у Екатерины Сергеевны обнаружили туберкулез. Надо было ехать за границу лечиться. Друзья помогли ей устроить в Москве концерт, сбор от которого дал средства на поездку. Она приехала в Гейдельберг и остановилась в пансионе Гофмана.
«Переезд меня страшно утомил; я совсем обессилела, – вспоминала она, – я только о том и думала, как бы скорее в постель. Но не тут-то было. Ко мне явилась депутация от гофмановской русской компании. Оказалось, что там, внизу, в зале пансиона, все в сборе и непременно желают видеть и слышать русскую артистку… Я всеми неправдами очутилась внизу и тут же познакомилась со всеми соотечественниками, оказавшими мне такое любезное и радушное внимание… Был между ними и Бородин. Конечно, начали меня уговаривать сесть за рояль и так настойчиво и неотвязчиво, что, как ни была я разбита дорогой, я решилась, чтобы отделаться, сыграть что-нибудь… Память подсказала сначала фантазию Шопена… а затем еще в придачу… Шумана. Но уже больше я ни на что не была способна и поспешила, окончательно измученная, к себе.
Пока я играла, Бородин был у рояля и весь превратился в слух. Он тогда почти не знал Шумана, а Шопена разве только немного больше».
С этого дня Протопопова присоединилась к русской компании и сдружилась с нею. С Бородиным ее сблизила музыка. «За эти дни, – продолжает она, – не прекращалось наше музицирование». Бородин даже жаловался: «Вы мне с вашим Шуманом спать не даете; и у вас-то он какой хороший выходит». День Бородина устраивался таким образом, что с пяти утра до пяти вечера он работал в химической лаборатории, затем до восьми часов они с Екатериной Сергеевной совершали прогулки по горам, а с восьми или с девяти часов вечера до полуночи – музыка в зале гофмановского пансиона. «С тех пор, – пишет она, – Бородин стал моим братом. Уже тогда начались нежные заботы обо мне, всю жизнь его затем не прекращавшиеся».
В Баден-Бадене, куда они поехали на симфонический концерт, Екатерина Сергеевна выразила восхищение одной модуляцией. «Я видела, как изумился Бородин. “Как? Вы слышите абсолютную тональность? Да ведь это такая редкость!” – воскликнул он и погрузился в какие-то думы, а лицо и глаза в то же время были такие ясные, счастливые». Екатерина Сергеевна тогда не понимала его удивления, так как обладала абсолютным слухом и ничего особенного в этом не находила. Но «с этого вечера, – пишет Екатерина Сергеевна, – мы знали уже наверное, каждый сам про себя, что мы любим друг друга».
Есть в горах в окрестностях Гейдельберга чудесное место – Wolfsbrunnen (Волчий источник). Здесь, в этом романтическом месте, молодые люди сказали наконец друг другу о своих чувствах.
Иногда по воскресеньям все отправлялись в Мангейм, где был хороший оперный театр. Там они впервые на сцене услышали Вагнера.
Еще в Москве в семьях Л. Н. Толстого и А. А. Фета Екатерина Сергеевна часто играла дуэты с талантливым скрипачом Фришманом, который очень ценил известного чешского скрипача Ф. Лауба. И вот однажды в Баден-Бадене Екатерина Сергеевна вместе со своей приятельницей шла вечером по одной из улиц курорта. Вдруг из открытого окна они услышали дивную игру на скрипке. «Страстный, могучий тон, бурное исполнение, захватывающее, потрясающее и в то же время благородное, в высшей степени музыкальное, ясное! “Это непременно Лауб! – воскликнула я в восторге. – Другому так не сыграть”. Мы долго слушали невидимого скрипача; так и не узнали, кто он». Под обаянием его чудной игры они вернулись в гостиницу. На следующий день гостиничный слуга доложил, что пришел какой-то господин и спрашивает фрейлейн Протопопову. «Выхожу. Передо мной маленький человек в очках. “Я – Лауб, – обратился он ко мне по-немецки. – Очень хотел познакомиться с русской артисткой”» [с. 82–97]. С тех пор они с Лаубом много играли вместе и в Баден-Бадене и в Гейдельберге.
Лауб познакомился и с Бородиным, и хотя у того тогда было еще мало собственных сочинений, однако сказал Протопоповой: «Знаете, барышня, этот Бородин станет когда-нибудь крупным музыкантом». В 1866–1874 годах Фердинанд Лауб (в директорство Н. Рубинштейна) был профессором Московской консерватории.
В середине сентября 1861 г. Бородин уехал в Шпейер, на конгресс немецких химиков и натуралистов, а по возвращении в Гейдельберг узнал, что у Екатерины Сергеевны резко ухудшилось состояние здоровья. «С наступлением осени и холодов мне, отдышавшейся за лето, снова стало хуже. Я усиленно стала кашлять, кровь пошла горлом. Я побледнела, похудела, краше в гроб кладут. Бородин и Сорокин повезли меня к гейдельбергской знаменитости профессору Фридрейху. Тот, видимо, не любил с больными церемониться, прямо так и хватил: “И месяца не проживет, если сейчас же не уедет в теплый климат. Пусть едет в Италию, в Пизу, там тепло теперь”. Что же делать! Мы тронулись на юг вдвоем. Там встретил нас итальянский октябрь… лето совершенное. Мне сразу стало легче дышать… снова повеяло жизнью. Но дни бежали… На меня напал какой-то панический страх остаться одной, совсем одной, в чужом городе, среди чужих людей, не понимающих моей французской и немецкой речи… Вдруг, ушам не верю, слышу голос Александра: “Катя, вообрази себе, что случилось! Я не еду в Гейдельберг, я остаюсь здесь… Лукка и Тассинари приняли меня любезнейшим образом. Лаборатория у них превосходная, светлая, удобная; они мне ее предложили в полное мое распоряжение… Здесь я могу заниматься всю зиму”. Снова полились обильные слезы, но они уже другое значили. И как быстро я поправляться начала!»
Бородин и его невеста прожили в Пизе всю зиму 1861/62 года и весну 1862 года. Плодом работы Бородина по химии явились три исследования, напечатанные в химическом журнале за 1862 год.
Они уже хорошо говорили по-итальянски. Пользуясь теплой итальянской весной, часто гуляли вдвоем ночью по городу, слушая народные песни, а иногда и сами принимали участие в таких импровизированных хорах. Однажды они познакомились с директором местной музыкальной школы и, организуя вместе с ним камерные ансамбли, стали играть сонаты, трио, квартеты, квинтеты. Благодаря его протекции Бородин и его невеста получили разрешение играть в пизанском соборе на одном из лучших в Европе органе. И однажды Екатерина Сергеевна произвела особенно сильное впечатление на слушателей, исполнив незнакомую им ранее музыку – «Силы небесные» Бортнянского.
К этой весне 1862 года относится и ряд композиторских опытов Бородина: фуга, тарантелла, квинтет…
Из Италии через Германию молодая пара отправились в Россию: Екатерина Сергеевна – к матери в Москву, а Бородин – в Петербург к месту службы в Медико-хирургическую академию в качестве помощника Зинина.
Среди студентов сразу разнеслась весть, что любимый ученик Зинина вернулся и скоро приступит к преподаванию. Он был назначен адъюнкт-профессором по кафедре химии. Все студенты с большим интересом стали следить за курсом Бородина, который взял на себя органическую химию. Неорганическую химию преподавал Зинин. Работы в лаборатории не разделялись: у каждого были свои ученики, которые вместе работали и пользовались указаниями и того, и другого профессора. Лаборатории химии разместились вскоре уже в новом здании специального лабораторного корпуса, на котором и висят теперь мемориальные доски в память Зинина и Бородина.
А на другом конце этого, такого теперь длинного здания висит еще одна из двенадцати мемориальных досок: «Здесь работал с 1860 по 1870 гг. основоположник отечественной физиологии и экспериментальной психологии, видный ученый и общественный деятель Иван Михайлович Сеченов». Судьба свела их после Гейдельберга не только в одной академии, но даже и в стенах одного здания.
Дружеские отношения сохранились также между Бородиным и Д. И. Менделеевым. Оба они участвовали в организации Русского химического общества. Бородин активно способствовал составлению Менделеевым знаменитого учебника «Основы химии» и даже написал для него несколько глав, связанных с приложением химии к медицине. Бородин выдвигал кандидатуру Менделеева на замещение вакантного места на кафедре Медико-хирургической академии. А когда в 1880 году Менделеева забаллотировали в члены Академии наук, Бородин вместе с другими учеными выступил с протестом.