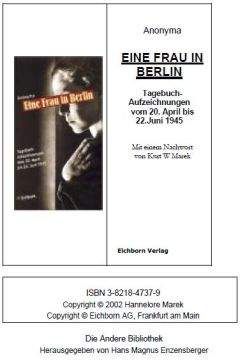Из дальнего угла палаты, тяжело ступая, подошел мечник Кистень, медленно положил широкую ладонь на плечо Мураша. Тот дернул плечом - не замай! - но железные пальцы Кистеня ухватисто скрючились в горсть, и Мураш, враз побелев лицом, застонал от боли. Кистень надавил слегка Мурашу пришлось сесть.
- Ступай с миром, Светобор, - негромко сказал Кистень. - Отдохни с дороги. Всеволод гонца прислал, похоже, собирается он заратиться с булгарами, и нам придется мечи вострить. Кто знает, когда еще отдохнем:
- Будь здрав, Кистень, - сказал Светобор и вышел вон. Ярость быстро сменялась усталостью. Поднявшись в свою каморку, он скинул кафтан, стащил сапоги и повалился на лежанку. Дрема окружила было голову облаком сладкого бесчувствия, но уснуть по-настоящему никак не удавалось. За стенкой, в палате Твердислава, бубнили чьи-то голоса.
Один из них - молодой и сочный - явно принадлежал Твердиславу.
Другой тоже был многажды слышанный, но задремывающий Светобор не мог вспомнить, где он слышал этот голос, Подумал - мое ли это дело? Ему хватало своих печалей. Непростая жизнь боярского любимца сильно тяготила его. Уж лучше бы он спал на твердой лежанке в палате воинов, терпеливо сносил пренебрежение и насмешки окружающих. Да нет, пожалуй, рано или поздно он бы освоился, с кем надо - подружился, кого надо - приструнил.
Вспомнился почему-то разговор с отцом, рассказ старика о Вятшей реке. Где она, это Вятшая река? И есть ли она на белом свете?
Светобор опять стал задремывать, и почудилось ему, что стоит он на высоком берегу, внизу раздольно голубеет речная ширь с просверками солнечных бликов, шумит, качается могучий лес на том берегу, и так светло на душе , так радостно и тепло на сердце:
Осторожный стук в дверь безжалостно разрушил сладкое видение.
Светобор вскочил на ноги и только потом разлепил сонные глаза.
-Зовут,- сказал с поклоном вошедший холоп. - Твердислав Михайлович велел явиться немешкотно.
Холоп помолчал и, осторожно глянув назад через плечо, шепотом добавил: - Сам посадник, набольший боярин Михайло Степанович пожаловал.
- Ступай!
Когда холоп вышел, Светобор быстро натянул сапоги, надел другой, почище, кафтан, пригладил ладонью всклокоченные волосы.
В палату Твердислав вошел без робости, сдержанно поклонился. В вечернем сумраке горела одинокая свечка, свет которой неярко освещал пустой стол. Возле стола сидел посадник - крупный, крутоплечий, с круглым лицом, над которым свешивались седые кудри. Голубые глаза пристально вонзились в вошедшего.
- Вот,- сказал из темноты Твердислав, - самый надежный. Честный, духом твердый, не из робких.
- Знакомое лицо, - задумчиво сказал Михайло Степанович.
Горе
В синих сумерках Микула, счастливый воспоминаньями дня, сладко томимый радостными предчувствиями, бодро шагал по знакомой тропе вдоль берега речки. Взошедшая луна освещала путь, легкий встречный ветерок с Оки ласково обдувал лицо. Впереди темнел край леса, а за лесом, там, где речка впадала в красавицу-Оку, стояла изба Микулы. В свое время отцу его, прибывшему в эти края из-за Мурома, почему-то не понравилось село, лежащее на берегу этой вот речки рядом с Ярилиным холмом, и он построился на отшибе, на широком окском просторе. Сельчане стращали его булгарами, земли которых начинались чуть ниже по Оке, но он только смеялся.
- Как из улицы идет молодец, - тихонько напевал Микула. Мать с отцом, конечно, уже спят, а вот меньшой брат Любим и сестрица Жданка ждут его, чтоб расспросить о празднике. Как-то незаметно к свежему весеннему воздуху примешался запах гари. Микула повертел головой, принюхался - тяжелый дух горения тянул спереди, от берега Оки.
Присмотревшись, с ужасом увидел он выползающие из-за верхушек леса густые клубы голубевшего в лунном свете дыма.
Не помня себя, не разбирая дороги, Микула бросился вперед и бежал до тех пор, пока, обессиленный, не упал неподалеку от избы. Крыша ее горела, ярко осветив лесную опушку и подступившие к ней деревья, а с другой стороны дрожащая огненная дорожка пролегала по темнеющей под берегом окской глади.
Вбежав в избу, он не поверил своим глазам. Посредине горницы, призрачно освещенные луной и отблесками пожара, лежали рядом мать и отец, пол вокруг был густо залит их смешавшейся кровью. Все это казалось страшным сном. Отец был еще жив, он моргнул глазами и слабо шевельнул рукой. Оцепенев от ужаса, Микула приблизился и опустился на колени в теплую родительскую кровь. Губы отца шевелились, но в треске горящей крыши не слышны были слова его. Микула наклонился, приблизил ухо к отцовским губам.
- Булгары: - слабо шептал отец. - Малых увели: Не уберег: Нас оставь: Обычай предков: Уходи.
Сверху посыпались горящие угли. Микула вдруг понял, почувствовал всей своей душой, что в последний раз видит он самых дорогих ему людей, родивших и вскормивших его. Слезы брызнули и горячими каплями полились на окровавленное отцовское лицо, искаженное предсмертной мукой.
- Матушка, - простонал Микула, порывисто целуя безучастное лицо матери.
- Уходи: - прошептал отец, и глаза его закрылись.
- Тятя! - закричал Микула, тормоша безвольное тело. Сверху страшно затрещало, пахнуло неимоверным жаром, горящие угли поыпались безостановочно. Микула метнулся к двери, выбежал на вольный воздух, в благодатную прохладу ночи, и упал на землю. Слезы бессилья и отчаянья душили его, внутри нестерпимо жгло, как будто горящими угольями наполнилась душа его. Как-то разом рухнула крыша, взметнув в темное небо огромный сноп искр и грозно взгудевшего пламени.
Храпел и бился в конюшне испуганный конь, в хлеву воем-криком заходились корова и овцы, но Микула зачарованно, не отрываясь, смотрел на огромный костер, бесшабашно полыхавший там, где еще вчера, еще сегодня, еще совсем недавно теплился родной очаг и все шло заведенным порядком. Микула смотрел на гудящее пламя и с тоской чувствовал, что привычная, устоявшаяся жизнь рухнула, как эта крыша, и вместе с искрами улетает вверх, в ночное темное небо. Туда же, в неизведанные небесные выси, летят сейчас души отца и матери, и в той новой жизни им не придется начинать на голом месте. У них уже будет вот эта изба, и одежда, и посуда, и хлев с коровой и овцами: У него же, Микулы, нет теперь ни избы, ни коровы, ни отца с матерью, ни братца с малою сестрицею.
Но почему? За что? Пыхнула, клокотнула в душе незнакомая, бешеная ярость, подбросила вверх с земли, и он со страшным звериным криком бросился к конюшне. Трясущимися руками выдернул из железных петель бревешко запора, накинул узду на вспененную конскую морду и, птицей взлетев на горячий круп, поддал пятками под ребристые бока. Конь с храпом рванулся от страшного места, всадник припал к его горячей шее, словно ища защиты и утешенья; зашумел в ушах ветер, гулко разнесся в мраке стук копыт. Микуле вдруг показалось, что еще немного - и он, слившись с конем, взлетит в темное небо и где-то там, вверху, догонит только что потерянные родные души:
Он не помнил, сколько времени продолжалась эта дикая бешеная скачка, не знал, куда и зачем летит он на храпящем коне среди безмолвного ночного мира. И лишь когда впереди показалась знакомая высокая крыша, Микула понял, что конь вынес его к дому дальнего соседа - мирного булгарина Турая. Дом стоял на берегу Оки, а чуть дальше, на освещенном луной речном просторе, чернели во множестве пятна лодок.
Оттуда слышались гортанные крики и разноголосица чужой речи. Ему вдруг показалось, что в незнакомом далеком гуле слышит он плач младшей сестрицы Жданки.
- Эй, вы, псы булгарские! -завопил Микула и бешено заколотил пятками под конские бока. Опять зашумел встречный ветер.
Когда взмыленный конь поравнялся с домом Турая, откуда-то сбоку, из темноты, вывернулся кривоногий человечек и, ловко вдруг подпрыгнув, бесстрашно повис на поводьях. Конь шарахнулся в сторону, Микула, не удержавшись, повалился вниз, и тут же сильные руки прижали его к земле.
- Микулка сапсем гылупай, - укоризненно пропел мягкий сипловатый голос.
- Пусти, Турай! - закричал Микула, пытаясь освободиться из железных объятий булгарина.
- Ой, гылупай, - удивленно тянул Турай.
- Пусти! - еще раз закричал Микула, но внезапно голос дрогнул и сорвался. Тугая тетива ярости, забросившая его на коня и пославшая в бешеный ночной полет, как-то разом ослабла, он весь обмяк и вдруг заплакал горько, по-детски, навзрыд.
- Плакай, плакай, - печально говорил Турай мягким своим голосом.
Руки его разжались, и он нежно, по-отцовски, гладил Микулу по растрепанным волосам.
- За что? - шептал Микула, глотая горькие слезы. - Матушку и тятю убили, избу сожгли, малых в полон забрали: Как дальше жить?
- Моя дом места мынога, - ласково пропел Турай.
- Матушка, матушка моя родная, - горячечно шептал Микула, и слезы горячими струями текли по его лицу.
Юзбаши Серкач
В сгустившихся сумерках лодка вошла в устье Сорного ручья и ткнулась носом в берег. Юзбаши Серкач вышагнул на землю и, приказав воинам идти в Ваткар, двинулся вверх по узкой извилистой тропе, которая круто взбиралась на Куалын-гору. Была еще другая дорога, более пологая и удобная, но пришлось бы делать большой крюк и тратить много времени, а у юзбаши Серкача не было желания блуждать по этим местам в потемках. Волею хана посланный в далекий Булгакар, юзбаши Серкач не любил этот тоскливый лесной край, презирал простодушных и диких его обитателей. Прежняя жизнь на итильских берегах казалась ему сказкой, давним прекрасным сном. Там, в богатых городах разноголосо шумели пестрые базары, барабаны возвещали о военных походах, кипели страсти при дворе великого повелителя могучего царства. Здесь, на задворках Булгарии, было тихо и сонно, никогда ничего не происходило, сегодня походило на вчера, а завтрашний день казался еще более скучным и унылым. От сотни воинов, прибывших вместе с юзбаши Серкачем на смену прежнего отряда, осталось чуть больше половины. Но не походы и битвы ополовинили булгакарское войско. Безделье и скука вынуждали воинов пьянствовать, и по этой причине они тонули в реках, замерзали в снегах, убивали друг друга в пьяных драках. Многие умирали от болезней - в Булгакаре не было хорошего лекаря.