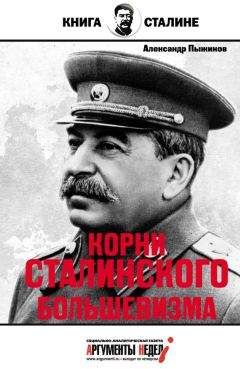Однако в том, что касается противоположной стороны – официального православия, то в «Пирамиде» Леонов предлагает серьезные новации. Они связаны с образом священника Матвея Лоскутова. Этот поистине необычный персонаж совсем не напоминает попа или иерарха никонианской церкви – неизменных объектов иронии и сарказма для Леонова. Пожалуй, он впервые благоволит священнической особе – и, как мы увидим, не случайно. Отец Матвей – прямая противоположность семьи Грацианских из «Русского леса». У него подлинно народное происхождение, что называется, из низов, он начинает трудиться уже с двенадцати лет[1245]. Его мужицкий облик, его вятскую речь, сохранившиеся на всю жизнь, дополняли крупные и тяжелые, «в порезах и проколах чернорабочие руки, а пуще всего вопиющая житейская неумелость»[1246]. Вся известная его биография «полностью исключала в качестве движущих побуждений какую-либо корысть, равно как и бытовавшую у иных псевдосвятых тщеславную гордыню – самому просиять в сонме праведников»[1247]. Эти строки невольно заставляют вспомнить Ивана Вихрова из «Русского леса»: его внутреннюю схожесть с отцом Матвеем трудно не заметить.
Итак, в «Пирамиде» отмечено нечто общее, то, что объединяет служителя РПЦ и людей, вышедших из староверия (на что в «Русском лесе» нет и намека). И это обстоятельство не является плодом воображения; чем больше мы узнаем об отце Матвее, тем лучше понимаем леоновский замысел. Принципиальная черта Лоскутова (помимо простого происхождения) – его отроческое увлечение староверческими книжками, начитавшись которых он «возымел жгучее влеченье к странничеству по святым обителям…».[1248] Болезненный склад помешал ему осуществить задуманное, и он оказался в лоне РПЦ в своем родном Вятском крае. Интересно, что после перевода из Вятки в Первопрестольную отец Матвей оказывается не в каком-нибудь из известных приходов, а в древнем храме Старо-Федосеевского кладбища, основанного при Екатерине II.[1249]Это глубоко символично, так как в действительности такого никонианского прихода никогда не существовало. Московское Преображенское кладбище, организованное староверами федосеевского согласия при той же Екатерине, стало центром русской беспоповщины, и там в принципе не могло быть никаких священнических особ. Получается, служение отца Матвея происходит в вымышленном приходе, основанном старообрядцами, причем беспоповцами.
Одна из сюжетных завязок «Пирамиды» – знакомство (при печальных обстоятельствах) Скуднова с отцом Матвеем. На исходе Гражданской войны Скуднов устанавливал новую власть в Вятском крае и прибыл взрывать очередную церковь. Служивший в ней отец Матвей с криком буквально повис на его руке, не давая рвануть заминированный храм (после взрыва стены были сильно повреждены, но выстояли). Скуднов решил выяснить, кто этот странный человек, и посетил отца Матвея дома: «Еще с порога, держась за притолку, посетитель взглянул на хозяина с особой пристальностью; переглядка из глаз в глаза послужила парольным согласием для предстоящего общения»[1250]. Оба, сразу ощутив общее простонародное происхождение, расположились друг к другу; «появилась бутылка первача, без чего не обходились на Руси встречи с рассуждениями о самом главном – о Родине в том числе. На этот раз встреча двух ветвей православия прошла тихо, без криминальных вздохов: разошлись на рассвете без сговора и даже без рукопожатья»[1251]. И хотя многое осталось непроизнесенным, стало ясно, что между ними есть еще одна общая черта – искренняя вера в то, что они делают: «оба они, священник и комиссар, одинаково ощущали роднившую их, саднящую боль, порожденную исторической трещиной на национальном монолите с отменой древнего племенного родства, подобно матрице в избе, крепившего русскую государственность»[1252]. Для Леонова преодоление конфессионального разлома не зависит от благих пожеланий, в коих никогда не ощущалось недостатка; оно возможно, только если главным становится «дело» для народа, а не «дела» – за счет народа. Именно это роднит отца Матвея и с Вихровым и со Скудновым и отдаляет от иерархов РПЦ. В самом деле, что общего у этих леоновских героев с благообразным православным батюшкой, который, обозревая пышную похоронную процессию одного богатея, восхищенно бормотал: «Красота-то какая, Господи, и сколько же денег сюда вложено»[1253].
Леонов размышляет: как залечить «историческую трещину» русской государственности? По его убеждению, сделать это можно, опираясь на религиозное чувство русского человека, основанное на понимании справедливости. А чтобы церковь отвечала своему высокому предназначению, ей необходимо испробовать народного лекарства, приготовленного по староверческому рецепту, и тогда все негодное, испорченное отпрянет от нее: и карьерные архиереи, и православные бизнесмены, которые видят в проходимцах в рясах партнеров по «утряске» со Всевышним некоторых нюансов разграбления русской земли.
Эта проблематика занимала и других писателей послевоенного периода, хорошо известных как «деревенщики». Их творчество часто сопоставляют с тем же «Русским лесом» Леонова, находя сходство в искреннем интересе к судьбам русской земли и народным чаяниям, в общем «экологическом» звучании, интересе к природе и т. д. Однако, это сопоставление нельзя признать правомерным, поскольку взгляд Леонова куда шире взгляда других авторов. Да и сами «деревенщики» по-разному понимают тот самый русский народ, в любви к которому искренне клянутся: Ф. А. Абрамов, с одной стороны, и В. И. Белов или Б. А. Можаев – с другой, описывают как будто совершенно разные народы. Слишком уж различаются их помыслы, жизненные цели и мотивации. Объяснение этому можно найти с помощью все той же религиозной «оптики». Уроженец Архангельского края Абрамов вдохновляется староверческой средой: вся его семья, проживавшая в деревне Верколы, относилась к беспоповцам. Он всегда помнил об этом и с неизменной теплотой отзывался о своих родственниках и односельчанах[1254]. А Можаев вырос в типично никонианской деревне Пителино Рязанской области, никаких староверов там отродясь не бывало. То же самое можно сказать и о Белове: все разговоры его героев о русском духе, о русском народе ведутся вне староверческого контекста, которого для него как бы не существует.
Федор Абрамов в своей тетралогии («Братья и сестры», «Две зимы и три лета», «Пути-перепутья», «Дом») описывает одни и те же архангельские места на протяжении послевоенных десятилетий. Его герои – почти сплошь староверы. Так, в деревенской церкви, оборудованной при советской власти под клуб, проходят общие собрания колхозников. И руководство замечает, что теперь все спокойно сюда приходят, хотя до революции «в этот самый храм Божий на аркане никого не затащишь»[1255]. Одна из женщин прямо характеризуется как «суровая, староверческой выделки»[1256]; другой постоянно снится умерший муж-старовер, который и на том свете живет у реки вместе со своими единоверцами[1257]. Передовица Марфа из староверок всю войну не сходила с районной Доски почета[1258]. Пожилой человек простит похоронить его по старой вере, и партийное начальство дает «добро»: «поздно переучивать человека на смертном одре»[1259]. Среди персонажей Абрамова есть и практикующие староверы. Евсей Мокшин держит молельню, и это ни у кого не вызывает осуждения, разве только начальство просило не выпячивать прилюдно свою религиозность. С Мокшиным связан один весьма примечательный эпизод. По району стали распространяться листовки с молитвой: топчут веру, не соблюдают посты, праздников не чтут, рушат церкви. В районе решили – это дело рук Мокшина, и его арестовали. Но один из коммунистов колхоза решил доказать, что тот невиновен. Эту листовку никак не мог писать старовер, тем более практикующий, а «чтобы понять это, надо самому старовером побывать», – сказал заступник, сам оказавшийся из староверческой семьи. Он пояснил, что никто из староверов никогда не будет сожалеть о церквях, которые разоряет советская власть: нас эти храмы Божьи никогда не интересовали. С его аргументом согласились и хода делу не дали[1260].
Отношение автора к описанной конфессиональной среде выражено предельно ясно: без этих коренных русских людей не выстояли бы в тяжелейшей войне, без них не было бы великой страны. Абрамов скрупулезно исследует их трудовую мотивацию, самоотдачу, противопоставляя им носителей собственнической прагматики. Одному персонажу (Клевакину), равнодушному ко всему, кроме продажи овощей, адресован ключевой вопрос: «Да русский ли ты человек?»[1261]Очевидно, в староверческой среде национальная идентификация осуществляется по другой, нежели у Клевакина, шкале. Зато в полном согласии с ней живет старовер Мокшин. Отработав на стройке за Волгой, он собрался в родную деревню (давно не видел детей). Но приближались зимние холода, и он остался класть печи, чтобы люди не померзли: «Разве я по корысти живу? Людей надо было спасать от холода!»[1262] На наш взгляд, подобные страницы в книгах Абрамова – наиболее сильные, а кроме того, весьма поучительные для сегодняшнего дня.