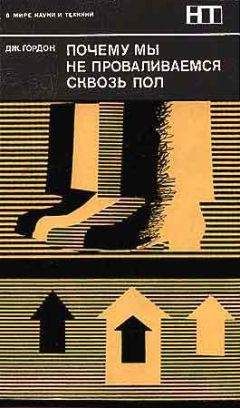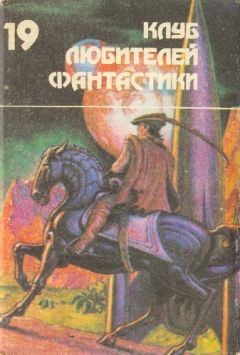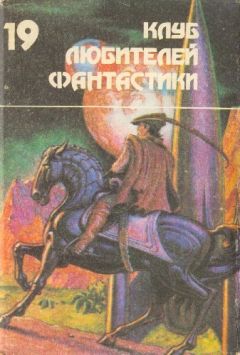большей мере мыслитель социальный [994].
В.С. как особое направление рассматривает эгалитаризм Руссо, определяя его специфическую радикальность в общем контексте идеологии Просвещения. Определяет он и социальную базу этого радикального эгалитаризма, отказываясь от любимой «фишки» ранней, да отчасти и послевоенной советской историографии– концепции «мелкобуржуазности». Тот слой трудящихся собственников, что представал в буквальном воспроизведении ленинских цитат некоей «третьей силой» между буржуазией и социальными низами, Алексеев-Попов отнес к последним как часть трудового народа.
Здесь его союзником оказался Поршнев, давший в книге «Феодализм и народные массы» определение «единоличной трудовой собственности» как антитезы, в первую очередь, феодальной земельной собственности, а затем, в период кризиса феодализма, и «буржуазно-капиталистической» [995].
В.С. отвергал применение «мелкобуржуазности», как категории сложившегося капиталистического общества, к переходной эпохе крушения феодализма. В рамках классового подхода вопрос, поднятый Алексеевым-Поповым, был принципиальным, и поскольку в таких случаях ссылка на авторитет была необходима, В.С. напоминал, что Ленин обычно писал о «низших слоях тогдашней буржуазии» [996].
Алексеев-Попов критически, насколько было возможно, относился к классовым коррелятам, осуждение неумеренного использования «мелкобуржуазности» оказывалось одним из проявлений. Из социологической категории «мелкобуржуазность» в начале 30-х годов стала превращаться в политико-этический штамп для объяснения сложных общественных явлений.
Довелось услышать от известного диссидента 60–70-х годов Григория Соломоновича Померанца проницательное и едкое суждение по поводу такой вульгарной социологии: «Раньше говорили бес попутал, а теперь – мелкая буржуазия». Особенно навязчивым клише «мелкобуржуазности» становилось по отношению к идеологическим феноменам: помнится, представителями мелкобуржуазной идеологии объявляли французских «новых левых» во главе с Сартром, а также популярного среди них Франца Фанона и значительную часть идеологии национально-освободительного движения.
Боролся я с нормативным вульгаризмом тем, что избежал в своей книге «Проблемы национально-освободительной борьбы в творчестве Франца Фанона» (1977) подобной «классовой» оценки. Кстати именно общение с Вадимом Сергеевичем, так же как влияние научного руководителя А.З. Манфреда, способствовало преодолению штампа «мелкобуржуазности» в моей диссертации. В историографическом введении я по традиции обозвал Мишле «мелкобуржуазным историком». В.С. это очень покоробило, а на мой недоуменный вопрос «Кто же он?» ответил: «Мишле – народник». Впрочем, было время и народников тянули под «мелкую буржуазию».
В общем В.С. преодолевал клише методом уклонения. А по поводу нормативного прибегания к классовым коррелятам в оценке идеологических явлений говорил мне примерно так: классовые оценки нужны как ориентиры, бакены на фарватере, но нельзя же пробивать фарватер до самого дня.
Самой серьезной историографической новацией В.С. было, как мне видится, обращение к концепции отчуждения у Руссо. Хотя Маркс, восприняв ее через Гегеля, поработал с ней в своих ранних произведениях, советская руссоистика постаралась без нее обойтись. Опасная была тема, поскольку отчуждение личности в западной литературе приобрело универсальное значение как порок всякого социума. В.С., естественно, вслед за Марксом связал отчуждение личности с обществом, где господствует частная собственность.
Поскольку Руссо, дойдя до критики частной собственности, не отказал ей в праве на существование в своем социальном проекте, он «и не видел путей преодоления самоотчуждения человека, и разоблачение его полно и гнева, и горечи, и отчаяния, которому суждено было конец его жизни отравить сознанием трагического одиночества». А выход советский ученый знал: «Призыв Руссо сделать человека целостным мог быть услышан и претворен в жизнь только научным социализмом» [997].
Разумеется, как представитель общества «победившего социализма» В.С. подчеркивал у Руссо, заодно с революционностью и пророчеством революционной диктатуры, идею коллективизма. Но ему была близка и защита мыслителем личности против диктата: «Он борец за суверенитет народа, за решающую роль общей воли, интересов большинства… и несмотря на все свои колебания он возвышается до понимания неизбежности революции и демократической диктатуры. И в то же время Руссо мудрый защитник прав личности, ее своеобразного суверенитета от возможного произвола со стороны диктатуры, теряющей свой демократический характер» [998].
Разумеется, подобное антидемократическое перерождение могло быть публично отнесено только к якобинской диктатуре, деградация которой в 1794 г. подкреплялась ссылкой на классиков. При всем том В.С. затронул после разоблачений на ХХ съезде КПСС весьма болезненную тему. И она получала развитие в новом повороте – обращении к критике у Руссо сведения государства к «небольшому числу людей, которые не суть народ, но служители народа, и которые, обязавшись особою клятвою погибнуть самим ради его безопасности, пытаются этим самым доказать, что он должен погибнуть во имя их безопасности». Этот постулат Руссо, обличавший двуличие бюрократии, Алексеев-Попов оценил как «одно из величайших проявлений диалектичности его мировоззрения» [999].
Еще в начале 70-х годов Алексеев-Попов продолжал упорно работать над диссертационной темой. Тема продолжала расширяться, ко второй части «Проблема и организация сил антиабсолютистск[ого] лагеря на первом этапе революции. 1789 г.» он пишет 3 п.л. И одновременно столько же на тему «Х[арактеристи]ка общих основ рационалистич[еской] философии Просвещения и критика ее у Руссо, в связи с генезисом романтического направления в обществ[енной] мысли». Предназначенный для книги о Руссо текст В.С. рассчитывал включить и в диссертацию [1000].
В последние годы Руссо окончательно вытесняет диссертационную тему. Работая над книгой о нем, В.С. увлекается темой «Толстой и Руссо». Предлагая мне сотрудничество, он так объяснял свой замысел: «Глубоким социальным источником той констелляции, которую образует эта пара (Толстой – Руссо), является то, что оба они сложнейшим образом “представляют” в сфере идеологии, нравственности и т. д. – огромный особый мир “крестьянства”» [1001].
В незаконченной статье к 200-летию классика Просвещения В.С. касался крестьянской темы [1002]. Направления просвещенческого эгалитаризма сопоставлялись с типами аграрного радикализма и даже употреблялось применительно к тому направлению, что Алексеев-Попов назвал «дистрибутивным», специфическое понятие «черного передела», русский аналог loi agraire, которым он некогда собирался заняться.
К этому времени, думается, Вадим Сергеевич исчерпал для себя аналитические возможности канонической советской руссоистики. Изучение истории идей было ограждено двумя доктринальными линиями материализм – идеализм и социализм – эгалитаризм (как присущее эпохи проявление буржуазной идеологии). Очевидная иерархия этих полярных категорий обратимости не подлежала, что делало оценку творчества мыслителя заведомо сложным делом, если отказаться, подобно Алексееву-Попову, от классовой этикетки «мелкобуржуазный».
Самый влиятельный в эпоху Революции классик Просвещения, увы, не был материалистом и с материалистами даже враждовал. Не был Руссо и социалистом, хотя оказал влияние на тех, кто был поименован в марксовой триаде возвышения к коммунистической идее. Была идея диктатуры как ипостаси Общей воли, и Алексеев-Попов, вслед за историками 20-х годов, за Старосельским, исследовал этот «мыслеобраз» [1003] исчерпывающим в рамках советского марксизма способом.
Оставалось, раскрывая «механизм действия гения» в различные эпохи истории мировой культуры, перейти в другое поле, тем более что такой переход был вполне органичен. Через Толстого, утверждал