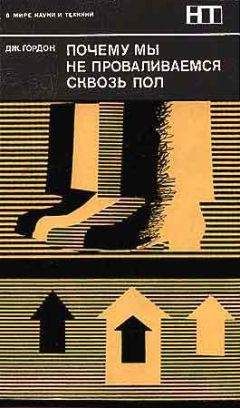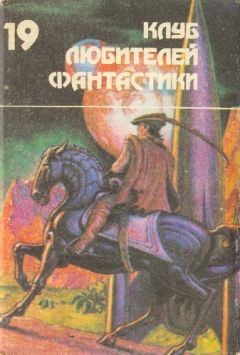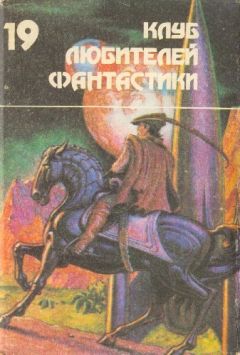В.С., открывается путь к исследованию «второй жизни» Руссо, и через подчеркиваемую исследователем идейную преемственность между Руссо и Толстым эгалитаризм первого выглядел более радикальным. Пореформенные дискуссии российской общественной жизни отразились в рассуждении об установлении «трудового статуса» земельной собственности, защите «трудовой собственности» и упразднении крупного землевладения.
Более перспективным, однако, в идейном сближении двух корифеев мировой культуры была бы, на мой взгляд, разработка этико-моральных аспектов социального протеста как «протеста против общественной лжи и фальши» (Ленин) [1004]. И значение такого протеста у Толстого и Руссо в конструировании, как показал Кропоткин, новой этики [1005].
В.С. привлекло другое направление – изучение «диалектики душевной жизни». Предметом его углубленного интереса становится «Исповедь», конкретно – значение этого произведения Руссо как «школы психологического реализма» для русских писателей 1830– 50-х годов. Как всегда, В.С. ищет методологическую подпорку и находит в литературоведческих исследованиях Лидии Гинзбург [1006]. Вадим Сергеевич, как обычно происходило с ним при знакомстве с инновациями, буквально вдохновился работами ленинградского филолога (возможно, найденной духовной близости способствовало также одесское происхождение Гинзбург и ее блокадное бытие). Рекомендовал их мне.
Еще одно письмо, В.С. берется за «последний тематический узел». Называется он весьма знаменательно: «Руссо о диалектике души». Классик Просвещения, представавший Вадиму Сергеевичу политическим и социальным мыслителем, становится теперь объектом духовно-нравственных размышлений. В.С. волнует сочинение «Руссо, судящий Жан-Жака». По сути ученый и в генезисе якобинской диктатуры подчеркивал духовно-нравственные аспекты («гегемония плебса»). Но как материалисту ему требовалась рациональная опора, и такую опору для изучения сферы сознания он (подобно Поршневу, которого он не называет) видел в психологии. В.С. чувствует, что анализ творчества Руссо уводит его в совершенно новую область – психоанализ, и просит найти «подходящего тонкого психолога для совета» [1007].
Увы, это было последнее письмо. Творческий путь и собственно жизнь ученого трагически сократили внешние обстоятельства, та идеологическая реакция, которой ознаменовались годы «застоя». Затронуло В.С. преследование диссидентов («дело Игрунова»). Один из членов этой группы, называвшей себя «Субъект исторической деятельности (СИД)» и обвиненной в хранении и распространении самиздата, Глеб Павловский, хорошо знавший В.С. как староста руководимого тем научного кружка, дал В.С. «Архипелаг Гулаг», чтобы, как говорил Павловский, узнать мнение уважаемого преподавателя-историка. Этот экземпляр органы и изъяли. На суде, к заседаниям которого он по болезни не привлекался, был зачитан его отзыв о книге Солженицына как о «тенденциозной», «злостно искажавшей жизнь страны» [1008].
Полагаю, вполне искренний отзыв. Многое в тогдашней советской действительности моему старшему другу не нравилось. Почерпнутую им у Руссо концепцию отчуждения личности он относил и к советскому обществу и считал едва ли не самой актуальной в творчестве классика Просвещения [1009]. Крайне раздражало В.С. моральное состояние советского общества. «От нас пахнет», – слышал я от него. И все! Никакой больше «антисоветчины». Он был именно советским человеком, и как советскому человеку, между прочим участнику Великой Отечественной, ему было горько от той общественной деградации, в которую погрузил страну деградировавший режим.
Спустя несколько лет после инцидента с «Архипелагом Гулаг», в 1978 г. его «ушли» с родного истфака. В ответ на мое предположение, что уход В.С. был отнюдь не добровольным, его бывшая студентка Елена Викторовна Полевщикова написала: «Вы правы, “ушли”, конечно, даже у нас, непосвященных студентов, было такое ощущение! А до того, как “ушли”, еще и учили, с какими темами на коллоквиумах выступать: я помню какое-то потрясённое (и даже немного восхищенное) недоумение Вадима Сергеевича по этому поводу после разговора с нашей царственной (ныне уж покойной) деканессой… Мы с подругой ждали его, чтобы вместе прогуляться (это случалось иногда), думаю, что вряд ли мы уловили всю сложность ситуации, но я помню ощущение горечи сквозь едкий комментарий В.С.» [1010].
Яркий образ этой, по выражению Елены Викторовны, «достойной уважения особы», воссоздал бывший студент, ныне профессор Одесского университета Г.П. Гребенник, что, пожалуй, проливает определенный свет на ситуацию, в которой оказался В.С. в последний период университетского бытия. Гребенник отчасти соглашается: многолетней (1966–1984 гг.) «деканессе», доктору исторических наук Заире Валентиновне Першиной «в памяти ряда поколений студентов истфака… уготовано почетное место легендарного декана». Была она высококлассным администратором: «умна, хорошо разбиралась в людях и, когда ей было нужно, талантливо играла в интеллигентность». «Уверенно руководила факультетом», культивируя «византийский стиль управления… Кого нужно – ”отстреливала”, кого нужно – ”прикармливала”» [1011].
Впрочем, скорее всего, в трагическом финале сыграли решающую роль не личные качества «деканессы», а то, что она была, по выражению Гребенника, «отличником системы» советской бюрократии, управлявшей университетским образованием, да в немалой степени и наукой. А эта система, изрядно деградировавшая в годы «застоя», уже не терпела личностное самовыражение. «Как лучше – не надо. Надо, как надо», – поучает сановный чиновник николаевской эпохи своего помощника в фильме Эльдара Рязанова «О бедном гусаре замолвите слово». Вадим Сергеевич стал системе не нужен и был «отстрелян».
Между тем преподавание, общение со студентами значили очень многое в его жизни. «Вадим Сергеевич был, в сущности, одинокий человек, – замечает Гребенник, ученик В.С. середины 70-х. – Университет, работа держали его в этой жизни». Он был «носитель огромных знаний, озабоченный проблемой кому-то их передать». Его педагогическая работа выступала при этом продолжением его научных исследований, и, бросая вызов советской образовательной системе, требовавшей строго придерживаться министерской программы, В.С. читал авторские курсы.
Большую часть лекционного времени, по тем же воспоминаниям, Алексеев-Попов отводил идеологии Просвещения и Французской революции, «ее основным линиям – консервативной, жирондистской и якобинской». «Судя по всему, – замечает Гребенник, – его самого интересовал феномен идеологии». На семинарах он ставил задачу «провести сравнение английской и французской революций и объяснить, почему первая осуществлялась, как он выражался, “в религиозной рубашке”, а вторая носила ярко выраженный атеистический характер и проходила под лозунгом “Долой религию, да здравствует разум!”». Для анализа революций «Вадим Сергеевич применял методологию, почерпнутую в работах К. Маркса. Последний в его глазах был великим мыслителем. А на первом месте у В.С. всегда шел его любимый Жан-Жак Руссо».
В.С. был не только увлеченным, но и требовательным педагогом. И при случае (недаром его прозвищем было «Алеша Попович») не скрывал раздражение нерадивостью своих учеников. Из поколения в поколение студенты слышали о том, как он вытащил из кармана пиджака только что полученную зарплату и со словами «зачем мне государство платит, если я не могу вас ничему научить!» бросил деньги так, что они веером разлетелись по аудитории. «Зато если он выделял кого-то из нас в лучшую сторону, то одаривал своим доверием», – свидетельствует Гребенник.
Я был гостем Вадима Сергеевича, и несколько дней в июне 1980 г. прожил со своей семьей