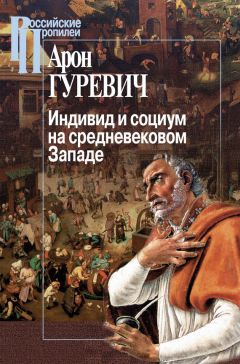Итак, первый мой вопрос порожден недоумением: а был ли Петрарка настолько далек и чужд своим современникам (о чем он неоднократно заявлял), что у исследователя не возникло потребности хотя бы пунктиром наметить тот человеческий и социально-культурный фон, на котором индивидуальный облик Петрарки, возможно, вырисовался бы несколько более отчетливо? В письмах Петрарки неоднократно упоминаются сильные мира сего – папы и кардиналы, герцоги и тираны и иные высокопоставленные персоны, которые, если ему верить, наперебой привлекали поэта к себе, ласкали и уважали его, явно придавая его личности и общению с ней огромное значение, между тем как сам он, коль мы опять-таки примем его слова за чистую монету, нуждался в них несравненно меньше.
Имена современников Петрарки, встречающиеся в книге Баткина, заимствованы из посланий самого поэта. Имена же многих других его современников (в несколько широко растянутом времени), которые принимали активное участие в социально-культурных и политических процессах ренессансной Италии, людей, оставивших нам от этой эпохи существеннейшие свидетельства о том, каков был человек того времени, – эти имена в книге отсутствуют. Вольно или невольно, автор исследования помещает своего героя в разреженное пространство, где тот и пребывает в гордом одиночестве, не получая никаких импульсов из окружающей среды, насыщенной новыми взглядами на мир и на человека.
Надо сказать, что этот метод изолированного рассмотрения творчества мыслителя или поэта вне его контактов со средой был в свое время применен Баткиным в анализе «Истории моих бедствий» Абеляра, что уже тогда вызвало у меня определенные сомнения. Невозможно двигаться от одной «человеческой вершины» к другой, оставляя без внимания весь прочий ландшафт. Я не хочу утверждать, что таков универсальный метод Баткина. В обоих упомянутых случаях – и с Абеляром, и с Петраркой – такой прием, казалось бы, находит оправдание в том, что сами эти гении изображали (или воображали) себя самодостаточными и не были склонны обращать особое внимание на своих современников. Однако вряд ли это дает основание исследователю действовать подобным же образом.
Другой вопрос, возникающий при чтении книги Баткина, отчасти сродни первому. Автор утверждает, что семена индивидуализма и самодовлеющего личностного сознания были впервые посеяны в европейской культуре именно Петраркой; они-то и проросли через несколько столетий. Но опять-таки меня поражает безлюдность исторического пространства, отделяющего время Петрарки от эпохи романтизма и от нашей современности. Разве на протяжении многих поколений не было мыслителей, писателей, ученых, художников, которые все вновь и вновь оказывались лицом к лицу с проблемой человека? Томас Платтер и Монтень, Паскаль и Ларошфуко, Ронсар, Рембрандт, Шекспир, Руссо… Список можно увеличивать ad libitum – все они, как кажется, немало потрудились над формированием облика человека Нового времени.
Не менее существенно, на мой взгляд, напомнить о том, что психология, привычки сознания и этика людей XVI и следующих столетий несут на себе неизгладимый отпечаток новых умонастроений, религиозных концепций, пришедших с Реформацией. Если сопоставить глубину и интенсивность воздействия идей Реформации с историческим вкладом Ренессанса, то я осмелюсь утверждать, что Лютер и Кальвин оказались теми ключевыми фигурами, которые заложили глубинные основы мировоззрения и поведения европейца Нового времени. Лютер и Кальвин – это лишь символы для обозначения того охватившего все общество движения, которое решительно затронуло и наново перестроило духовный склад многих тысяч и миллионов людей. Тут было кому сеять идеи индивидуализма помимо Петрарки – поэта и мыслителя элитарного и обращавшегося, собственно, не к будущим поколениям людей, а к относительно небольшой горсточке интеллектуалов, подобных ему самому.
Величие (и, если угодно, везение) Петрарки-автобиографа состоит, на мой взгляд, прежде всего в том, что, выстроив миф о себе самом, он ухитрился-таки заставить поверить в него многие поколения читателей и ученых.
В том, как Баткин возводит колоссальную дугу, соединяющую Петрарку с носителями идей индивидуализма XIX и XX веков, я, да простит меня мой высокочтимый друг, усматриваю известное проявление методологии прогрессистского эволюционизма и телеологизма. Оставим наши малосодержательные споры о том, когда и где впервые появилась человеческая личность, и согласимся, что в том обличье, какое нам более всего знакомо, эта личность сложилась лишь в течение последних веков. Но из этого еще вовсе не следует, что процесс ее формирования неизменно отличался постоянством и не знал перерывов и нарушений, попятных движений и ускорений, разного рода ups and downs. Понять этот процесс, который, в силу исключительной сложности и слабой уловимости предмета, ускользает из поля зрения историка, в какой-то мере можно только при условии, что мы не изолируем этот предмет от всего того социоментального контекста, в котором личность складывалась и трансформировалась.
В свое время Баткин в этюде о том, «Как Гуревич возделывал свой аллод» («Одиссей» за 1994 год), высказал подозрение, что я не люблю Возрождения. Позволю себе не согласиться. Понятия «любовь» и «нелюбовь» не вполне адекватно выражают суть отношения историка к изучаемому им предмету, во всяком случае, моего. Будучи медиевистом, я тем не менее не склонен объясняться в любви к Средневековью, не склонен ни идеализировать его, ни хулить. Мое дело состоит в том, чтобы разобраться в смысле происходившего, оставаясь на позициях «вненаходимости» (М. М. Бахтин). Что касается Ренессанса, то я всегда преклонялся перед его художественными достижениями, и не по нраву мне не эта эпоха, а те лица, которые, живописуя ее, изъясняются исключительно в суперлативе (сказанное, разумеется, не относится к самому Баткину – тонкому и глубокому исследователю).
Мне вспоминается та маленькая буря в среде «ренессансоведов», которую вызвала мысль А. Ф. Лосева об «оборотной стороне титанизма» Возрождения (разгул безнравственности, вероломство и изощренность преступлений, предельный эгоцентризм и т. п.). Мне кажется, что «приборы», используемые историками для изучения Ренессанса (как и классической Античности), и тот понятийный инструментарий, коим вооружены медиевисты, существенно различаются между собой: «патриоты Ренессанса» продолжают смотреть на прошлое глазами гуманистов и просветителей.
Но, в конце концов, дело не во вкусах и пристрастиях, дело в другом. Вычленение из всеобъемлющей ткани истории одних лишь героев и гениев подозрительно напоминает мне издавна практиковавшуюся в нашем ремесле методологию Geistesgeschichte или Ideengeschichte, методологию почтенную, но, по моему убеждению, едва ли вполне соответствующую потребностям современной исторической мысли.
* * *
Боюсь сделаться занудно-монотонным и тем спугнуть читателя, но вынужден возобновить полемику с Л. М. Баткиным, относящуюся к проблеме личности на средневековом Западе. Этот новый рецидив спровоцирован возражениями, выдвинутыми моим оппонентом в совсем недавно вышедшей монографии «Европейский человек наедине с собой. Очерки о культурно-исторических основаниях и пределах личного самосознания» (М., 2000). В этом тысячестраничном томе объединены многочисленные статьи разных лет. Но, как мне кажется, перед нами отнюдь не «синтез переплетчика», а всестороннее и многоплановое исследование проблемы, которая по-разному, и даже прямо противоположным образом, давно занимает нас обоих. Выстроенные в продуманный смысловой ряд разрозненные исследования Баткина рельефно выражают его намерение представить историю зарождения и формирования личностного самосознания европейского человека. Монография содержит очерки об Августине, Элоизе и Абеляре, о гуманистах, включая Петрарку, Макиавелли и других мыслителей Возрождения. Книге предпослано новое обширное введение, заключающее в себе теоретико-философское обоснование концепции европейской личности, развиваемой автором. По убеждению Баткина, лишь от эпохи Возрождения и начала Нового времени дошли до нас тексты, в которых можно обнаружить убедительные указания на становление личностного самосознания, неотъемлемый признак «суверенного и самоценного Я». Формирующаяся личность характеризуется способностью «сознавать себя, действовать, жить в горизонте регулятивной идеи личности»; ей присуще сознание «самоценности отличия», равно как и «ответственности перед собой». Она не сводима к общему, уникальна и преисполнена «чувства личной оригинальности».
Если попытаться кратко резюмировать весьма пространные и нюансированные рассуждения автора, то вновь придется признать: человеческая личность существовала в истории, собственно, только в том облике, какой она приобрела в XV веке и следующих веках. Что касается более отдаленных периодов, то к ним это понятие, по Баткину, не применимо: религиозное сознание и личностное самосознание не совместимы, ибо первое устремлено к Богу, тем самым лишая индивида суверенности и самоценности, тогда как второе – центрировано на самом себе. Согласно этой логике едва ли правомерно говорить о личности такого мыслителя, как Августин: «„Личность“ – это антипод „личности“ у Августина и в Средние века» (с. 110). «„Идеи личности“, сиречь пафоса „самодетерминации“, не было и не могло быть даже у Августина и… особенно у Августина» (с. 118).