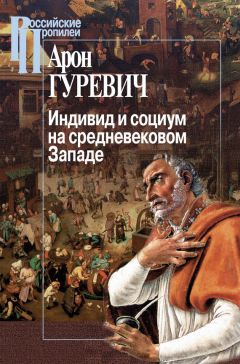Если попытаться кратко резюмировать весьма пространные и нюансированные рассуждения автора, то вновь придется признать: человеческая личность существовала в истории, собственно, только в том облике, какой она приобрела в XV веке и следующих веках. Что касается более отдаленных периодов, то к ним это понятие, по Баткину, не применимо: религиозное сознание и личностное самосознание не совместимы, ибо первое устремлено к Богу, тем самым лишая индивида суверенности и самоценности, тогда как второе – центрировано на самом себе. Согласно этой логике едва ли правомерно говорить о личности такого мыслителя, как Августин: «„Личность“ – это антипод „личности“ у Августина и в Средние века» (с. 110). «„Идеи личности“, сиречь пафоса „самодетерминации“, не было и не могло быть даже у Августина и… особенно у Августина» (с. 118).
Я не буду здесь возобновлять наш спор о неодинаковом понимании личности в разные исторические эпохи. Но подозрение, давно у меня возникшее, о том, что Баткин дает определение личности, опираясь исключительно на опыт европейской истории Нового времени, только укрепилось при чтении введения к его новой книге. На мой взгляд, перед нами своеобразный парадокс: энергично ратуя за строго исторический подход к предмету и предостерегая против его модернизации, мой оппонент, кажется мне, использует в качестве средства познания зеркало, в котором отражаются черты его самого и его современников. Индивидуалист Новейшего времени представляет собой в глазах моего коллеги своего рода венец творения; суверенное личностное самосознание – это плод интеллектуальных усилий, на которые оказались способными одни лишь мыслители Ренессанса и Просвещения. «Современный Я-человек, – пишет Баткин, – решается быть одновременно истцом, ответчиком и высшим судией своего существования» (с. 902). Его отдаленные предки, знавшие исповедь и покаяние, тем не менее, по убеждению Баткина, подобной решимостью не обладали. Диалектические ухищрения философской мысли моего оппонента приводят его к заключению, будто практика исповеди свидетельствует об отсутствии попыток самоуглубления.
В мои задачи здесь ни в коей мере не может входить рассмотрение содержания этого капитального труда. Единственное, на что я отваживаюсь, состоит в обсуждении того примечания, которое адресовано непосредственно мне (прим. 5, с. 913–917).
Но прежде чем обратиться к указанному тексту, я решаюсь вновь заострить внимание как его автора, так и читателя на том расхождении в наших с Баткиным принципиальных позициях, которое, как мне представляется, обозначено уже в самом названии его новой книги: «Европейский человек наедине с собой». Этот принцип обособления индивида и конфронтации его преимущественно или даже исключительно с собственным Я вполне адекватно выражает основную методологическую установку моего коллеги. Я, напротив, исхожу из убеждения, что разработка проблемы «личности» или «индивидуальности» в определенную историческую эпоху может быть плодотворной лишь при условии, что человек рассматривается не изолированно, но в качестве члена некоего сообщества. Соответственно, читатель моей книги мог убедиться в том, что я не ограничиваюсь вглядыванием в облик и жизненные судьбы выдающихся людей Средневековья и считаю необходимым задуматься над тем, каковы были условия формирования и выявления личности в той или иной социальной среде.
Обращаясь теперь к критическим замечаниям Баткина в мой адрес, считаю необходимым остановиться на некоторых моментах.
Первое и, пожалуй, самое существенное мое несогласие с ним состоит в следующем. Моему толкованию понятия «persona» в проповеди Бертольда Регенсбургского Баткин противопоставляет текст из «Теологической суммы» Фомы Аквинского и, насколько я понимаю, тем самым склонен обесценить рассуждения францисканского монаха. При этом он инкриминирует мне тенденцию умалить интеллектуальный вклад великих мыслителей Средневековья. По его словам, мой «…пафос „ментальности“ побуждает считать всяких там „высоколобых“, гениальных же в особенности, – маргиналами, непоказательными исключениями, и следовательно, людьми второго сорта с точки зрения воссоздания „картины мира“, „народной культуры“, социально-исторических структур и черт общества в целом» (с. 916–917). Ну зачем же так, друг мой! Придерживайся я столь нелепой мысли, не потратил бы я половину своей книги на очерки, посвященные великим или значительным средневековым авторам. Насколько репрезентативны идеи великих в контексте «картины мира» их времени или каково их воздействие на умонастроения общества – это вопрос, всякий раз заслуживающий специального обсуждения. То, против чего я протестую, заключается совсем в ином: правомерно ли ограничиваться одними только идеями выдающихся мыслителей и пренебрегать умонастроениями, бытовавшими в той или иной социальной среде?
Более конкретно: в одно и то же время, в середине XIII века, были записаны и высказывания Аквината (процитированные, но, к сожалению, не прокомментированные Баткиным), и толкования притчи «О пяти талантах». Уровни, на коих строились оба дискурса, в высшей степени различны: Фома писал для образованных, ученых людей, тогда как странствующий проповедник Бертольд обращался ко всем и каждому. Аквината не занимает социальная природа того абстрактного предмета, о сущности (о субстанции и индивидности) которого он толкует, его мысль витает в заоблачных высотах схоластики, и в этом его величие. Мой же несравненно более заурядный немецкий монах, ни в малейшей степени не теряющий связи с Богом, в то же время ухитряется прочно стоять на грешной земле и вплотную созерцать человека с его действительными жизненными интересами, потребностями и обязанностями. На мой взгляд, было бы глубоко неверно игнорировать построения как одного, так и другого. Более того, интересно было бы мысленно охватить обе точки зрения в качестве неотъемлемых компонентов картины мира XIII века. Стремясь к более стереоскопичному взгляду на культуру того времени, я пытался сопоставить рассуждения Бертольда с некоторыми современными ему тенденциями в изобразительном искусстве и литературе.
Но мой друг и оппонент вовлекает в наш спор, наряду со схоластами и монахами, еще одну фигуру – старушку у кладбищенского погоста с ее (заемной, впрочем) мудростью: «Бог дал, Бог взял». Если бы Баткин не ограничился созерцанием старушки издалека, то, полагаю, он легко убедился бы в том, что между этими событиями – рождением и смертью – заключена вся ее жизнь, заполненная трудом, заботами, потерями, страданиями. Такие старушки не утрачивают чувства ответственности перед Богом и ближними, хотя, скорее всего, не анализируют этого чувства и связанного с ним понятия. Бертольд Регенсбургский, в отличие от старушек, сосредоточивает внимание как раз на ответственности индивида: в свой смертный час человек должен будет дать отчет за прожитую жизнь, за вверенное ему имущество, за отведенное ему время и за исполнение своей социальной роли. В фокусе рассуждений проповедника – не самоуглубление обособленной личности, остающейся «наедине с собой», но именно ее включенность в группу, в социум. Центр тяжести в анализе человека и его природы смещается. И как раз в поле напряжения, образуемом схоластической абстракцией Аквината и подобных ему мыслителей, на одном полюсе, и пастырской проповедью нищенствующих монахов – на другом, следовало бы, на мой взгляд, искать ответ на вопрос, из-за которого спорят Баткин с Гуревичем.
Правда, мой оппонент упрекает меня в том, что я его не понял и выдаю за Баткина некое выдуманное мною лицо. Но здесь, думается мне, нам следовало бы положиться на суждение читателей…
Сталину, не к ночи будь помянут, приписывали афоризм: «Нет человека – нет проблемы». Наш спор с Баткиным можно резюмировать так: «Нет проблемы, нет и человека». Отрицая правомерность размышлений о личности в эпохи, предшествовавшие Ренессансу, мой друг и оппонент снимает с повестки дня самое проблему, поскольку решение ее ему известно заранее. Не мне судить, насколько убедительна предлагаемая мною альтернатива, но в любом случае предпочтительнее ввязаться в схватку, нежели пребывать в покое, навеянном иллюзией о «рождении личности» в эпоху Ренессанса.
3. Язык бюрократии и язык автобиографии
Опицин предстает во многих отношениях как уникальная и особняком стоящая личность. Он находился на службе при папском дворе в Авиньоне, но нет сведений о каких бы то ни было его человеческих связях. Это его социальное одиночество становится еще более рельефным, если помнить о том, что его рисунки и рукописи создавались не для какой-либо аудитории и не имели адресата. Очень трудно поставить эту остающуюся во многом загадочной фигуру рядом с кем-либо из современников. Но, может быть, небесполезно сравнить этого безумного одиночку с другими представителями бюрократии, складывавшейся в период позднего Средневековья.