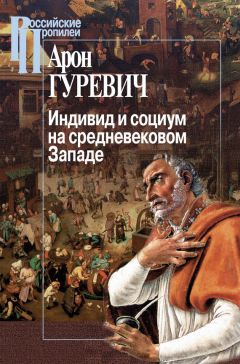Не так легко найти других писцов и чиновников этого времени, которые тоже оставили бы автобиографические сведения. Нам придется обратиться к рассмотрению свидетельств мирского клирика, жившего позднее Опицина почти на целое столетие, и уже не итальянца, а англичанина. Это Томас Хокклив, который в конце XIV – первой четверти XV века служил в королевской администрации (в ведомстве Частной печати). Его литературное наследие разнородно. Оно состоит, с одной стороны, из обширного свода канцелярских текстов, в частности образцов прошений и ответов на них, собранных в качестве пособия для молодых писцов, а с другой стороны – автобиографической поэмы «La male regie».
Изучение его писаний помогает частично осветить тот путь, который прошли английские клирики от положения служащих в дворцовом управлении короны к статусу государственных чиновников нового, более бюрократизированного типа. И. Кнапп, новейший исследователь оставленных Томасом бумаг, считает важным обратить внимание на озабоченность этого слоя формирующегося чиновничества своим материальным положением. Их доходы складывались из жалованья, а также из платы за составление документов и иного рода подарков. Размеры дохода могли быть довольно значительными, но они были весьма непостоянны, особенно в условиях социально-экономических потрясений и политической нестабильности. Сохранилось множество петиций с просьбами о материальном вспоможении, с которыми клерки обращались к властям. Поэму Хокклива исследователь тоже называет «петиционной», поскольку основное ее содержание так или иначе затрагивает тему денежной нужды автора и потребности его выйти из затруднений, которые он себе создавал, ведя неправильный, по его собственному признанию, образ жизни.
Просьбы о вспоможении облечены Хоккливом, по оценке Кнаппа, в своего рода сплетню, распространяемую автором поэмы о самом себе. Сплетня была жанром словесности, утвердившимся в английской литературе по меньшей мере со времен Чосера. Хокклив признается в кутежах в компании «игривых дочерей Венеры». Впрочем, как он утверждает, он не заходил далее поцелуев, туманно ссылаясь не то на робость, не то на неспособность к чему-либо большему. Сплетни о собственной персоне, доходящие до «агрессивного самоочернительства», используются автором поэмы, наряду с неприкрытой лестью в адрес властей, в качестве аргумента при выпрашивании новых подачек. В финале поэмы автор дает понять, что раскаялся, и деньги теперь помогли бы ему окончательно излечиться от пороков.
Кнапп полагает, что определенные черты характера Томаса Хокклива можно обнаружить не только при чтении его поэмы, но при внимательном анализе подбора текстов в его «Формулярии». В этих документах ощущается своего рода напряженность между автобиографической конкретностью (в прошениях) и бюрократической анонимностью (в ответах на них), оценить которую в полной мере можно, если иметь в виду, что и петиции, и ответы писались одним и тем же лицом. В нескольких текстах-образцах Хокклив, вставляя свои инициалы, выводит на сцену самого себя, но одновременно как бы прячется за подчеркнуто формульным и стерто-обезличенным стилем, отличающим именно эти образцы «Формулярия». «Воспитанный на непростом жанре прошения, Хокклив приходит к автобиографии через бюрократическую игру в прятки», – пишет Кнапп. И далее: «Язык бюрократии и язык автобиографии являются, таким образом, взаимно конституирующими»[403].
Фигуры Опицина и Хокклива в высшей степени различны. Если англичанин склонен к самоиронии и, следовательно, способен взглянуть на себя одновременно и снаружи и изнутри, то «игры» Опицина с антропоморфными географическими картами, с параллелями между странами Европы и частями собственного тела, его непрестанные размышления о судьбах мира, которые он напрямую связывает с собственной персоной, однотонно серьезны. Хокклив поглощен собственными материальными заботами, тогда как Опицин обуян эсхатологическими идеями и мировыми проблемами; впрочем, проблемы эти неотделимы от его Я. Опицин остается в кругу проблем, порожденных средневековым миросозерцанием, проблем, которые в огромной мере усугубляются его эгоцентрическим стремлением поставить себя в центре мира, тогда как Хокклив явственно испытывает давление бюрократической машины, ничтожной частицей коей он себя ощущает.
Парадоксальным образом самосознание Опицина, во многом и главном воплощающее в себе средневековое мировосприятие, оказывается более персоналистичным, нежели самосознание Хокклива, склонного идентифицировать себя с «винтиком» оформляющегося Левиафана Нового времени.
И. Казус лорда Меллифонта
Попытка очертить человеческую личность средневековой Европы отчасти вылилась в нечто иное – в демонстрацию трудностей, с какими сталкивается историк, задавшийся подобной целью.
Дело в том, что все самохарактеристики индивида неизбежно глубоко субъективны. Искать сущность личности, исходя из ее прямых высказываний о самой себе, – вещь рискованная, и безоговорочно положиться на признания индивида было бы столь же опасно, как и полностью им не доверять. Куда больше может дать не высказанное прямо, но содержащееся «на дне» речей и поступков – те смыслы, которые подразумеваются или непроизвольно прорываются сквозь «план выражения». В непосредственном личном общении наблюдатель способен составить определенное суждение о личности; оно тоже субъективно, но основывается не только на речах собеседника, но и на многих других признаках – на его поведении, мимике, на созерцании всего его облика. Наше знание другого в огромной мере опирается на внешние симптомы. Разумеется, это знание обусловлено нашими взглядами и чувствами, равно как и суждениями других лиц о данной персоне. Не проецируем ли мы в конечном счете собственное Я, с его критериями, вкусами и предубеждениями, на «экран» другой личности?
Но историк находится в еще более сложном положении: он лишен возможности прямого наблюдения личности человека, который некогда жил. Диалог, неизменно предполагаемый человеческим общением, в ситуации исторического познания существенно ограничен. Он опосредован одними только текстами, и потому аура живого контакта двух лиц здесь отсутствует. Всё, чем историк в лучшем случае располагает, – это высказывания индивида или сообщения о нем других.
Тут я слышу голос оппонента: намерение познать личность, «какова она была на самом деле», – попытка в принципе нереальная и ложная, ибо индивид, выражая себя в наборе предлагаемых культурой формул и топосов, из них-то и конструировал свою личность, структура которой к тому же определялась в Средние века плотной и разветвленной сетью ритуалов, норм поведения и обычаев. Следовательно, тот язык, посредством которого индивид себя выражает, и составляет его существо. Тщетно искать что-либо за текстом, за ним уже ничего не скрывается.
Справедливо ли подобное возражение? Не выходит ли, согласно этой логике, что личность как таковая «пуста», что она – не более чем форма, заполняемая тем, что ей навязывает язык культуры? Мне вспоминается рассказ Генри Джеймса «The Private Life» («Частная жизнь»)[404]. В нем наряду с раздвоенной личностью писателя, одна ипостась которого ведет праздную светскую жизнь, тогда как другая, отделенная от первой, втайне поглощена творчеством («Один уходит из дому, другой остается дома. Один – гений, другой – буржуа, и мы лично знаем только буржуа»), фигурирует лорд Меллифонт, – он-то и припомнился мне в этой связи. Проблема личности поставлена писателем здесь с необычайной остротой. Джентльмен и человек безукоризненных манер, главенствующий в своем светском кругу, лорд Меллифонт, как неожиданно для себя обнаруживают два других персонажа рассказа, существует лишь постольку, поскольку пребывает на людях – в салоне, в обществе, с женой (которая подозревает о чем-то неладном, но никому не признается) или в присутствии слуг. Когда же он остается наедине и его никто не видит, он на время аннигилируется; он не уходит «в себя» или «к себе» (как писатель) – он вовсе исчезает, его попросту нет! Лишь появление других людей и общение с ними выводит лорда из небытия.
Идея Джеймса, если я верно ее уловил, состоит в том, что лорд Меллифонт сам по себе не обладает собственным Я, и его «самость» (self) всецело зависит от его общения с другими. Его индивидуальность существует лишь постольку, поскольку она кем-то воспринимается. Такая ценность западной цивилизации, как privacy, потребность уединиться, быть «у себя» (и название рассказа явно указывает на privacy, а не на «частную жизнь» в обычном смысле), гротескно преобразуется в этом английском аристократе в пустоту – не в душевную незаполненность, а буквально в пустоту: когда его никто не видит и не обращается к нему, он дематериализуется. Его личность, в той мере, в какой в данном случае о ней вообще допустимо говорить, всецело зависима от общения с другими. Его бытие определяется светскими условностями, правилами джентльменского поведения, социальной ролью, неизменно и с совершенством им играемой, – вне их нет никакой сущности, которую можно было бы определить как личность.