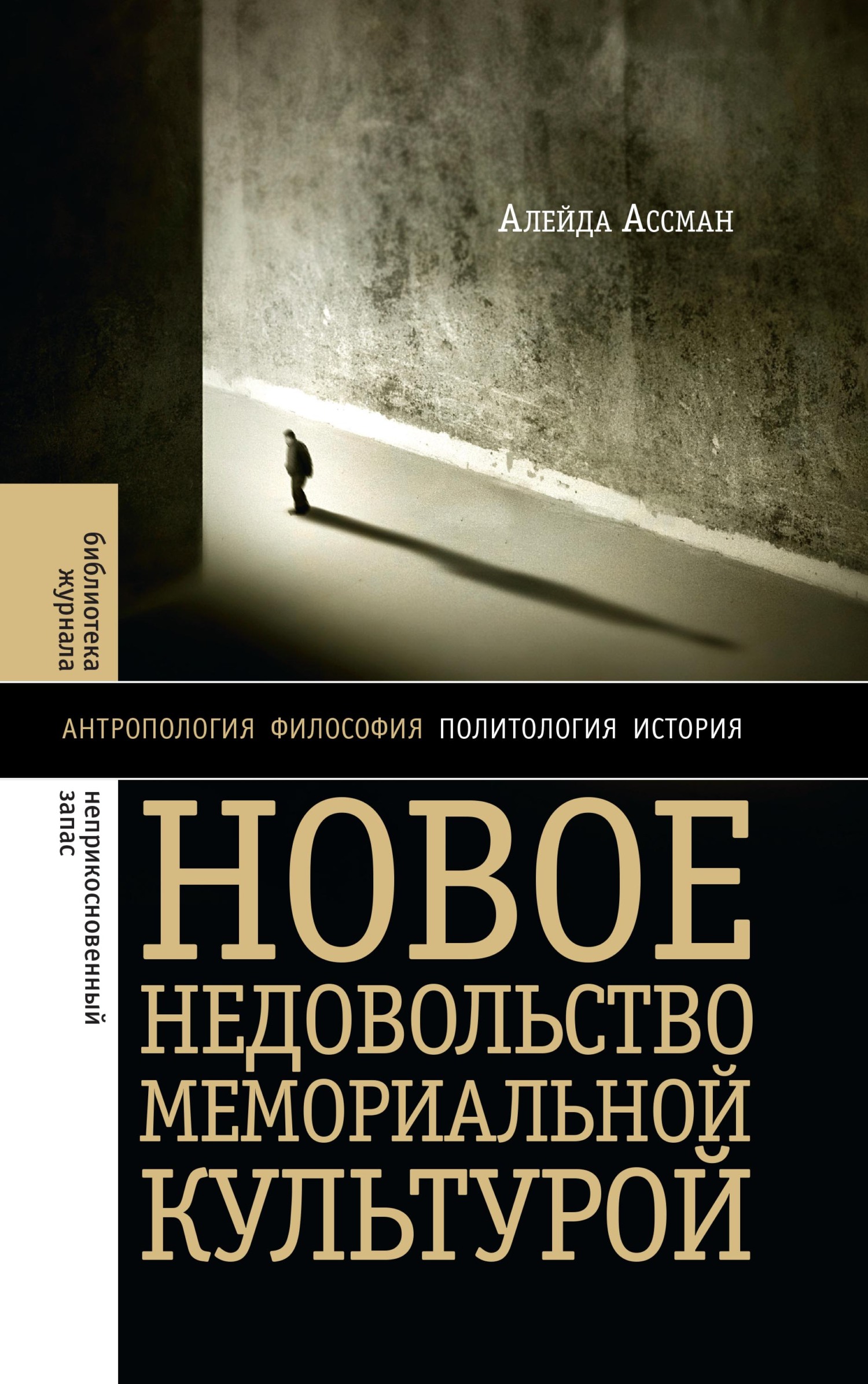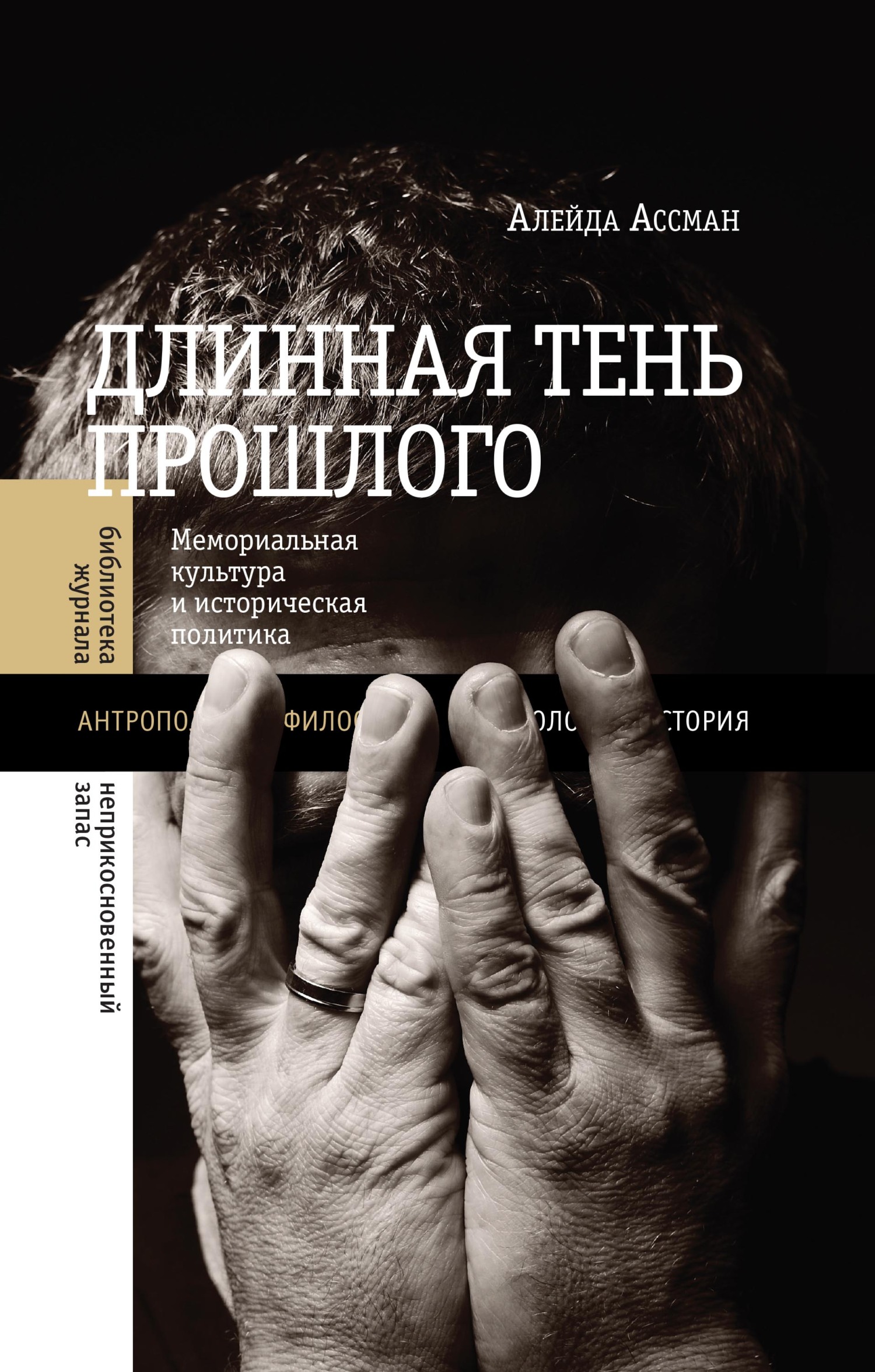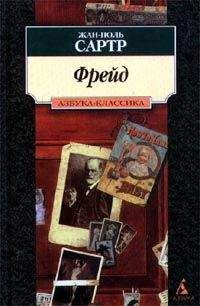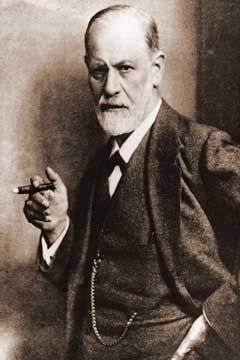прошлого. Как верно заметил Люббе еще в 1983 году, этот американский телесериал дал возможность сопереживания и для поколения очевидцев трагических исторических событий, и для последующих поколений. Он стал событием для всего общества, неожиданно объединившим как старшее поколение, которое упорно хранило молчание, так и молодое поколение, сбитое с толку радикальной политизацией. Телесериал «Холокост» произвел на немцев не менее сильное воздействие, чем судебный процесс над Эйхманом на евреев в Израиле. Эмоциональное сопереживание вымышленным персонажам, представляющим судьбы безымянных евреев, послужило основой того, что позднее получило название «мемориальной культуры».
Фильм «Наши матери, наши отцы» опять нарушил молчание; это событие оказалось не новым, поскольку оно воспроизвело базовый посыл немецкой мемориальной истории. Герман Люббе описал умолчание с точки зрения исторического очевидца, не отождествлявшего умолчание с вытеснением из памяти событий прошлого. Его аргументация основывалась не на моральной, а на прагматической позиции и ориентировалась прежде всего на будущее. «Все происходило, – пишет он, – по эту сторону определенной границы; в политическом отношении было важно не столько, откуда ты пришел, сколько – куда ты идешь» [58].
Люббе не придавал значения исторической ретроспективе, признанию собственных заблуждений и политическому раскаянию, что отдаляет его от нынешних основ немецкой мемориальной культуры. Зато для него была и остается крайне важной совместная инвестиция всех социальных групп в ценности нового правового государства. «Превращение нацистского партийца в гражданина ФРГ» произошло, по его мнению, не за счет внутреннего морального преображения, а лишь благодаря успешному приспособлению к новым условиям; Люббе объясняет подобную трансформацию не «перековкой», а «адаптацией к лучшему, продиктованной жизненным опытом» [59].
Крещендо памяти о Холокосте
В 1983 году свое выступление Люббе начал с парадоксального наблюдения, ставшего теперь общим местом. Напомним его: «Чем больше времени отделяет нас от краха национал-социализма, тем интенсивнее занимаемся мы этой темой. С увеличением временной дистанции от двенадцатилетнего периода „третьего рейха“ память о нем в бдительном сознании современного общества не слабеет. Напротив, культурная и политическая актуальность воспоминаний о нем возрастает. В историческом горизонте немцев национал-социализм приобретает тем большую эмоциональную значимость и злободневность, чем сильнее погружается он вдаль этого исторического горизонта» [60].
Сегодня можно лишь подтвердить то, что констатировал Люббе тридцать лет назад. Крещендо памяти о Холокосте нарастает с примерно двадцатидвухлетней периодичностью. Понадобилось два десятилетия, чтобы Холокост вышел из тени событий Второй мировой войны и чтобы о нем заговорили после судебных процессов в Иерусалиме и Франкфурте-на-Майне; потребовалось еще два десятилетия, чтобы это преступление против человечности заняло новое место в интеллектуальных дебатах и в актах коммеморации; еще двадцать лет ушло на то, чтобы Холокост был увековечен в музеях и мемориалах по всему миру.
Крещендо памяти о Холокосте
После 1989 года с открытием архивов в Центральной Европе стали доступны документы о коллаборационизме. В 1990-е годы память о Холокосте была закреплена множеством памятных мероприятий, выставок, музеев, памятников и политической символикой. Разросшееся коммеморативное сообщество, перешагнув национальные границы, достигло глобальных масштабов. Одновременно это сообщество обрело характер модели, на которую ориентируют свои притязания другие группы жертв; по образцу данной модели они оформляют собственную память об исторической травме.
Люббе написал свой текст до возникновения того феномена, который именуется ныне немецкой мемориальной культурой. «Нежелание признавать страдания жертв Холокоста, – отметил социальный психолог Харальд Вельцер, – стало крупнейшим мемориально-политическим скандалом послевоенной истории» [61]. Разумеется, такая оценка делается с нынешних позиций. Немецкая мемориальная культура формировалась постепенно на протяжении четырех десятилетий после окончания Второй мировой войны. Этому предшествовал затяжной период латентности, включающий в себя коммуникативное умолчание и последующее нарушение коммуникативного молчания протестным поколением. Для Люббе латентность молчания была не мемориально-политическим скандалом, а «социально-психологическим средством превращения послевоенного населения страны в гражданское общество Федеративной Республики Германии» [62]. Благодаря умолчанию решались одни проблемы (внутренние перемены, адаптация к новым условиям, общественная интеграция), но одновременно возникли или обострились другие проблемы. То, что сыграло целительную роль для старшего поколения, обернулось тяжким бременем для следующих поколений. Они создали новую мемориальную культуру, которая имеет эмоциональное, моральное и культурное измерение. Новая мемориальная культура стала поколенческим проектом шестидесятников; однако произошло это не в ту пору, когда они были двадцатилетними протестантами, еще не присутствовавшими на судебном процессе над охранниками Аушвица и не участвовавшими в парламентских дебатах о сроках давности нацистских преступлений, а тогда, когда в сорокалетнем возрасте они начали занимать ведущее положение в общественной жизни, когда в 1980-е и 1990-е годы они освободились от своих прежних идеологических взглядов.
Деидеологизация предшествующих историко-политических дебатов сыграла решающую роль в становлении новой мемориальной культуры. Место правых и левых идеологий заняли права человека в качестве нормативной основы для политических решений, моральных оценок и исторической чувствительности. Этот ментальный поворот начался в 1980-е годы во многих местах, что постепенно привело к кумулятивному эффекту; данный поворот ознаменовался завершением вьетнамской войны, имевшей важное значение для США; крахом латиноамериканских диктатур и вытекающими отсюда процессами политического транзита (что произошло и в ЮАР); окончанием биполярного мира, эпохи холодной войны и падением «железного занавеса» в Европе. Данный поворот обусловил значимую смену перспективы в Западной Европе: произошел сдвиг от героев и творцов истории к безымянным жертвам, чьи судьбы были впервые рассказаны и услышаны во всем многообразии их голосов. Главным ориентиром стали теперь права человека; с этим связано признание страданий гражданских жертв государственного насилия и расизма, сочувствие к этим жертвам. Поворот ознаменовался также отказом от снисходительности к преступникам и вниманием к страданиям (не только еврейских) жертв. Этим шагом завершилась замкнутость немецкой памяти на самой себе, ибо за последующие десятилетия немцы присоединились к транснациональному сообществу памяти о Холокосте; немцев объединяет с этим сообществом новый принцип «сохранения прошлого», характеризующийся направленностью памяти на неопределенное будущее.
3. Проблемы немецкой мемориальной культуры
Сложилась парадоксальная ситуация. На протяжении многих лет весь остальной мир хвалит Германию за ее достижение, то есть за развитие немецкой мемориальной культуры. По мнению английского историка Тимоти Гастона Эша, Германия установила своего рода стандарты мемориальной культуры наподобие DIN, – немецких промышленных стандартов; в России говорят о «немецкой модели» мемориальной культуры, а американскому политологу Джону Торпи, автору фундаментальных исследований о трансформации политических систем и о деятельности «комиссий правды», даже принадлежит сентенция: «We are all Germans now!» [63] Подразумевается ментальная и мировоззренческая эволюция, которая привела к тому, что различные страны проявляют все большую готовность признать совершенные ими преступления, а не отрицать