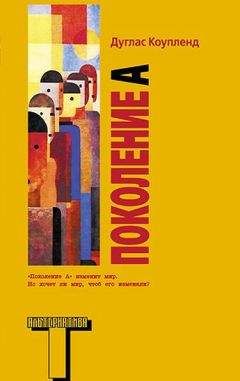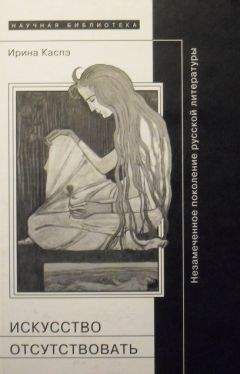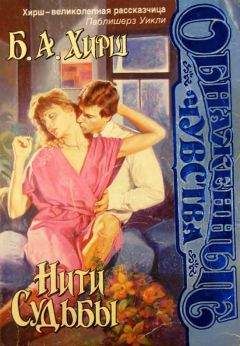началось с рук», именно вокруг этого ключевого образа она выстроила свои альбомы
31. Визуально и тактильно эти руки передают ощущение израненной кожи и таким образом – телесное присутствие травмы, провоцируя реакцию зрителя на телесном уровне. В то же самое время пустое пространство с другой стороны страницы напоминает об отсутствии, скрытности, молчании, непереводимости.
Перевернув последнюю страницу альбома «Пятьдесят лет молчания», читатель достигает основы, на которой держится каждый из томов: лист розовой бумаги, где закреплен слепок ампутированной татуированной руки, подписанный и пронумерованный художницей. Вытатуированные на обеих руках номера таким образом перекликаются с номерами экземпляров издания, собственноручно подписанных Келльнер. Здесь ярче всего выражается непреодолимая дистанция между опытом двух поколений: если художница нумерует собственное произведение, отдельное от ее тела, то руки ее родителей как таковые были пронумерованы нацистами – не как произведения, а как части тела, которым было отказано в их человеческих функциях. Со стороны дочери это художественное решение, знак власти художника; со стороны ее родителей – напоминание о насильственной дегуманизации и беспомощности жертвы32.
Можно спросить, заботилась ли Келльнер, нумеруя экземпляры, о том, чтобы зафиксировать зазор, отделяющий ее собственный процесс познания и клеймления от опыта родителей быть заклейменными. Не создала ли она в этих слепках слишком буквальный символ, не раскрыла ли чересчур много, не соскользнула ли в миметическое воспроизведение, то есть в вос-память? Это было бы возможно, если бы руки не были частью такой многослойной и комплексной работы, как «Пятьдесят лет молчания». Фотографии, гипсовые слепки и татуировки в соединении с письменным текстом вовлекают нас множеством сложных способов, приглашая смотреть, листать страницы, читать и все время натыкаться на пустое пространство, оставленное этими руками. Когда мы беспокойно переключаемся между всеми этими способами восприятия, текст сопротивляется пониманию и потреблению. Сама форма «Пятидесяти лет молчания» служит исчерпывающим комментарием трудности не только воспоминания и передачи, но и самой по себе проблемы художественного изображения Холокоста с современной точки зрения. В своей скульптурной и книжной форме, в совмещении рассказа и изображения работа Келльнер создает ощущение глубины и обещания откровения (ил. 3.4).

3.4. Татана Келльнер, обложка альбома «71125: Пятьдесят лет молчания» (Kellner Т. 71125: Fifty Years of Silence. Rosendale, N.Y.: Women’s Studio Workshop, 1992). С разрешения Татаны Келльнер
В то же самое время избыток текста, бледность и нечитаемости наложенных на него образов, материальность рук, которую мы так пронзительно ощущаем к концу чтения, зазоры, которые остаются в повествовании, не могут устранить ощущение тщетности, непонимания и нереальности. Альбомы Келльнер не более чем попытка перевода – с чешского на английский, из прошлого в настоящее, с языка концлагеря на язык нашей повседневности. И этот неудающийся перевод дает дочери, представительнице «второго поколения», возможность сохранить доверенную ей память, позволяя родителям сохранить по отношению к ней «исторический зазор». В то же самое время она может признать неизбежность собственного акта разрушения молчания, который возникает из недостатка знания, отмечающего связь выживших с их детьми. Но в тексте Келльнер, как и у Шпигельмана, говорит отец, а мать отказывается от разговора: «Наверное, он забыл о том, что я была рядом и слышала все это».
Выставка Джеффри Уолина «Записанные в памяти: портреты Холокоста» 1997 года и одноименная книга обращают внимание на межпоколенческие примеры визуальной и вербальной передачи травмы. В этих портретах Уолин, американский художник, родившийся в 1951 году в семье польских и литовских евреев (его родители покинули Европу до Холокоста), фотографирует переживших Холокост и вручную переписывает выдержки из их изданных свидетельств прямо на отпечатанном снимке. Хотя работу семейной постпамяти так или иначе иллюстрируют многие его фотографии, с особенной силой изображает динамику передачи опыта от матери к дочери портрет Ирмы Моргенштерн с дочерью (ил. 3.1). В отличие от историй, рассказанных Моррисон, Карпф и Келльнер, эта передана Уолином, мужчиной и художником, который находил свои сюжеты в интервью с их героями, затем редактировал их свидетельства и записывал их. Это конкретное изображение дает нам возможность увидеть передачу опыта от матери к дочери не как проблему нащупывания идентичности, но как аффилиативное пространство воспоминания, доступное другим людям, внешним по отношению к членам конкретной семьи. Это позволяет увидеть динамическое взаимодействие дистанции, необходимой для алло-идентификации постпамяти, и близости, делающей возможной телесную передачу метки.

3.5. Ирма Моргенштерн. Фотография с выставки Джеффри Уолина «Записанные в памяти: портреты Холокоста» (1997). С разрешения галереи Кэтрин Эдельман, Чикаго, Иллинойс
На фотографии Ирма Моргенштерн, родившаяся в Варшаве в 1933 году, стоит, обнимая молодую женщину, по-видимому, свою взрослую дочь, и они обе держат в руках портрет женщины, вероятно, матери Ирмы. На титульном листе книги помещена фотография двенадцатилетней Ирмы, сделанная в Варшаве в конце войны, в 1945 году (ил. 3.5).
В тексте рассказывается о ночи, когда Ирма сбежала из гетто. Хотя речь в этом рассказе идет о ее отце с матерью и дочь в нем почти не упоминается, она изображена внимательным слушателем, свидетелем и наследником. Рассказ повествует о сложной смене имени и идентичности – Ирма должна была пойти на это, живя в укрытии. «Вечер перед бегством из Варшавского гетто, когда они узнали, что следующей ночью меня с ними уже не будет, был очень тяжелым. Мы сидели и разговаривали, и они старались втолковать мне, кто я теперь, что я из Варшавы и меня зовут Барбара Нозаревска – я никогда этого не забуду… Но с другой стороны, в другую часть моего сознания они старались вложить, что после войны я снова буду еврейкой по имени Ирма Моргенштерн»33.
Мать, дочь и бабушка соединены в рамках одного изображения, но есть что-то ужасно анахроническое в том, что женщина на фотографии, бабушка, моложе взрослой Ирмы и ненамного старше ее дочери, и в том, что она уже никогда не постареет настолько, чтобы стать настоящей бабушкой для молодой женщины на фотографии. На этом портрете сразу несколько пар «мать и дочь»: Ирма и ее дочь сегодня; Ирма и ее мать в прошлом, с улыбкой глядящие друг на друга сквозь разрыв, полосу белой бумаги; и Ирма и ее мать в настоящем: но здесь мать – это только портрет, на котором она моложе своей дочери, застывшая в вечном прошедшем настоящем.
3.6. Мишо Вогель. Фотография с выставки Джеффри Уолина «Записанные в памяти: портреты Холокоста» (1997) – С разрешения галереи Кэтрин Эдельман, Чикаго, Иллинойс