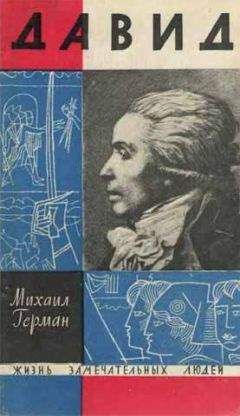он не переживает столь тяжело, прежде всего потому, что они, сомнения, сопутствуют ему постоянно. Нищету он воспринимает озабоченно, но без пафоса и надрыва. Меж тем ему фатально не везло. Изысканно и смешно написанный «Клоун в цирке» (1868, Оттерло, Музей Крёллер-Мюллер), эта фигура, соединяющая в себе благородную монументальность с остротой характера, достойной Тулуз-Лотрека, эта знаменитая теперь картина не принесла Ренуару ни единого су: заказавший ее за сто (!) франков хозяин кафе при зимнем цирке обанкротился.
Огюст Ренуар. Лягушатня. 1869
Это время решительного утверждения пленэра совпадает с интенсивными дискуссиями за столиками кафе «Гербуа», где главные персонажи — Мане и Дега — решительно против пленэра возражают. Сезанн, в отличие от своих сверстников, пленэром не озабочен вообще.
Он, пожалуй, единственный, кто не был и не стал парижанином. Измученный опекой семьи, особенно отца (во время его периодических и не слишком долгих приездов в Париж его почти всегда сопровождает кто-нибудь из родственников), Сезанн только к концу шестидесятых поселился в столице более или менее прочно, но дома себя здесь не чувствует. Выходец из обеспеченной семьи, Сезанн тем не менее презирает (или делает вид, что презирает) всякую буржуазность («Они одеты как нотариусы», — брезгливо говорит он о завсегдатаях «Гербуа»), сам нарочито небрежен в одежде, и чай с птифурами, который устраивает в Париже его однокашник и друг Золя, вызывает у художника смешное раздражение. В этом презрении и демонстрации собственной «простоты нравов», наверное, еще больше позы, чем в птифурах Золя, и вся эта псевдодемократическая суета мешает ему в кафе «Гербуа» быть заинтересованным слушателем.
Поль Сезанн. Автопортрет. 1879–1882
Но как раз тогда в нем пробуждалась необузданная, не оформившаяся еще гениальность революционного — куда более радикального, чем у его собеседников, — видения, которую пылкий, мятущийся, малообразованный провинциал из Экс-ан-Прованса был еще не в состоянии в полной мере выразить в искусстве и тем паче сформулировать на словах. Его картины конца шестидесятых взламывают плоскость, вещество и структуру традиционной живописи, предлагая пока нечто смутно величественное, наполненное агрессивной активностью, выстроенное грозными по цвету и фактуре тяжелыми мазками. Его искусство той поры фантастично, исполнено тревоги и одновременно божественного равновесия. Картины строятся наподобие циклопической «живописной архитектуры», где лишь цвет определяет форму, игнорируя светотень: портрет «Дядя Доменик в костюме монаха» (ок. 1866, Нью-Йорк, Метрополитен-музей) — словно воплощение сверхчеловеческой силы, что мучит и воодушевляет самого художника; «Черные часы» (ок. 1870, частная коллекция) — шедевр цветом организованной грозной гармонии, где яростные контрасты глухих и пылких оттенков созидают или словно бы извлекают из самых начал бытия первичные ритмы и координаты мироздания. Близкое ощущение, но связанное уже с природой, вызывает картина «Таяние снегов в Эстаке» (ок. 1870, Цюрих, собрание фонда Бюрле), перед которой зритель становится словно бы свидетелем угрюмого и прекрасного сотворения нового художественного мира, наделенного собственной мощью и заставляющего, быть может, вспомнить мрачное великолепие античной трагедии. Сезанн, этот застенчивый и дерзкий гость кафе «Гербуа», притворяется грубияном, задирает коллег, он не в силах совладать ни с миром, ни с людьми, ни с масштабом собственного дара, он и в самом деле здесь отчасти чужой. Импрессионистические идеи, проблемы пленэра его решительно не интересовали, привлекательно было лишь желание собратьев покончить с обветшавшими приемами и догматами. Позицию свою по поводу обсуждавшихся в кафе «Гербуа» идей Сезанн вряд ли высказывал: во-первых, ее, этой позиции, скорее всего, еще не было, во-вторых, он более всего спешил — совершенно провинциально и по-мальчишески — демонстрировать свою «простоту» и «неотесанность».
Поль Сезанн. Черные часы. Ок. 1870
Однако талант его и даже странность его картин внятны, во всяком случае Эдуару Мане, — вероятно, в 1868 году Сезанн был представлен мэтру, уже знаменитому, и тот искренне восхитился натюрмортами молодого собрата. Мане больше, чем кому-нибудь другому, близка была эта неутолимая страсть к самовыражению, настоянная на живописных идеях Делакруа и Курбе [109].
Сезанну ближе всего была, надо полагать, и живопись, и личность Писсарро.
Уже говорилось: Писсарро у всех и всегда вызывал уважение и приязнь. Он много размышлял, отличался терпимостью (качество у завсегдатаев «Гербуа» редкое) и всерьез, хотя и в несколько романтически-возвышенном ключе, интересовался политикой — он питал пристрастие к идеям анархизма.
К тому же он был старшим, жил тяжело и уж никак не «буржуазно». У него уже двое детей, и семья ждет третьего [110]. Единственный его покупатель папаша Мартен платил ему от двадцати до сорока франков за холст. Сезанну он платил больше, а Моне — даже сто франков за холст. И при этом ворчал, что у Писсарро «слишком грязная палитра». Писсарро брался за любую работу — даже расписывал шторы. Что же касается живописи, то в ней была та мощная плотность фактуры, выверенное соотношение масс и отсутствие внешних эффектов, которые Сезанна, несомненно, привлекали.
В ту пору Писсарро уже расстался с Парижем, сохранив, правда, скромную квартиру на бульваре Рошешуар (в ту пору — городская окраина): жизнь в Понтуазе или Лувсьенне недорога, а в природе — бездна восхитительных мотивов. Вокруг Понтуаза — повторяющиеся очертания округлых холмов, кубики домов на их склонах, аркады старых каменных мостов, построенных чуть ли не римлянами, медлительная неширокая Уаза меж спокойных зеленых берегов. Лувсьенн рядом с Сеной, совсем близко Буживаль — зеленые отсветы трав в Сене, лиловатые, выгоревшие на солнце сады, зелень с пепельно-голубым отливом, поразительные эффекты света на воде, мягчайшие переходы нежных цветов. Здесь повсюду царят не формы — краски. И надо было обладать особым «конструктивным» зрением Писсарро, чтобы в этой изменчивой природе находить системы объемов, логику пространственных отношений. И не только находить, но и превращать ее в эстетическую доминанту картины.
(Впрочем, необходимо сделать небольшое, но принципиальное отступление. Когда сегодняшний даже самый проницательный зритель смотрит на картины Моне или Писсарро, имея возможность сравнивать их с той натурой, которую эти художники писали, он оказывается в плену искусства и видит домики и склоны Понтуаза именно такими плотными, густо-материальными, как писал их Писсарро, берега Сены — лучезарно-неуловимыми, как на холстах Моне. Мы давно порабощены видением импрессионистов. Этому не в силах помешать даже варварское нагромождение современных промышленных построек на некогда зеленых и вольных берегах Сены. И