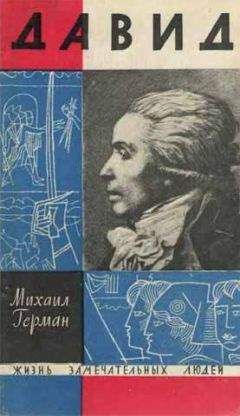уже невозможно понять, в какой мере природа вдохновляла художников, а в какой — наше зрение изменилось под воздействием живописи. Как ни странно, степень близости импрессионистов к натуре теперь не в состоянии оценить все те, для кого их картины давно стали реальнее самой природы.)
В пейзажах Писсарро той поры свет лежит на земле и домах весомыми, густыми уплощенными пятнами, строя главные массы, и лишь слегка касается фигур, отмечая скорее их движение, чем формы: уже тогда мастер ищет гармонию статики и динамики.
Пейзаж «Дилижанс в Лувсьенне» (1870, Париж, Музей Орсе) — красноречивейший тому пример. В музейном зале издали он чудится маленьким, беглым, даже несколько пестрым этюдом, но вблизи ощущение меняется неожиданно и резко: крохотный (25×34 см) холст вырастает в масштабный, почти эпический образ. Мотив тяготеет к «пейзажу настроения» — придорожная сельская харчевня под черепичной крышей, дряхлый дилижанс у обочины размытой дороги, деревья, тянущиеся к мглистому небу. Но в холсте доминирует не настроение — сила пластической особливости: пуссеновское равновесие масс, горизонт, делящий картинную плоскость в пропорциях золотого сечения, торжественный ритм сверкающих рефлексов на мокрой земле, мощное звучание вертикали — дерева, продолженного отражением дилижанса на залитой дождем дороге. Но литое пространство словно бы тронуто нежным движением воздуха и света, в тяжелых облаках — подвижные розовые и золотистые (в одно касание) мазки, темно-винный блеск лежит на влажной черепице, сырая глина дороги лиловеет в тенях. Вечная спокойная соразмерность мира вступает в плодотворный диалог с его поэтической, но преходящей изменчивостью. В этом — сущность поэтики Писсарро.
Камиль Писсарро. Дилижанс в Лувсьенне. 1870
И вполне закономерно: то немногое, вполне импрессионистическое, что промелькнет вскоре у Сезанна, будет им усвоено именно через Писсарро. Равно как и Писсарро сумеет немало взять у Сезанна.
Если удачи и неудачи «младших» (а вместе с ними и Писсарро) воспринимаются во временнóй дистанции как логическое движение к обретению индивидуальности и мастерства, то работа Мане на исходе 1860-х способна, как и прежде, вызывать не только восхищение, но и недоумение. Что заставляет этого вполне уже зрелого мастера так метаться в выборе мотивов, так хлопотать об утверждении себя в пространстве официального искусства, наконец, писать сюжеты, столь неожиданные и не соответствующие всему, что он делал прежде?
Как и младшим единомышленникам, Мане надеяться не на что. Их работы действительно в Салон не приняли. Непримиримость жюри вызвала новую волну возмущения и даже новые требования открыть Салон отвергнутых, что не привело решительно ни к чему. На Всемирной же выставке 1867 года, на которую тоже надеялись «батиньольцы», показали лишь произведения художников, ранее получивших медали. Положение Мане было ничуть не хуже, чем у его соратников, — их работы тоже остались вне Салона.
Так что по-своему Мане был прав, решив, не дожидаясь приговора жюри, показать, как и Курбе, свои картины в специально выстроенном павильоне на правом берегу — напротив Марсова поля, где проводилась Всемирная выставка.
Близится тяжелейшее для Мане лето 1867 года: павильон построили с опозданием, и обошлось это непомерно дорого, выставка явно оказалась неудачей, унижением, разочарованием. А заканчивается лето настоящим горем: в сентябре умер Бодлер — ближайший, трудный, любимый друг.
Павильон возвели около моста Альмá — там, где сходятся теперь застроенные респектабельными многоэтажными домами авеню Георга V (тогда авеню Альма) и авеню Монтень, а тогда была просто пустошь, правда принадлежавшая некоему маркизу. По другую сторону авеню Альма — павильон Курбе.
Тогда Мане очень помогали статьи Золя. Его очерк о художнике, напечатанный отдельной брошюрой, Мане не решился продавать в своем зале: опасался упреков в саморекламе. Вместо того он сам написал предисловие к каталогу. «Мане никогда не хотел выступать с протестом. Наоборот, все протестовали против него, когда он вовсе этого не ожидал. <…> Само время воздействует на картины как неощутимая полировка и смягчает первоначальную резкость. „Показать!“ — это значит найти друзей и союзников в борьбе. Мане всегда признавал талант, где бы он ни обнаруживался, и никогда не предлагал ни уничтожать старую живопись, ни создавать новую. Он только хотел быть самим собой и никем другим» [111].
Какое странное смешение смирения, мудрости и наивности! Само желание «быть самим собой» и значило создавать новую живопись!..
Провал, провал! Курбе обронил несколько язвительных слов, зрители приезжают посмеяться. Как странно думать сейчас об этом! Полсотни работ, среди которых мировые шедевры, известные теперь почти как «Джоконда»: «Любитель абсента», «Гитарреро», «Портрет госпожи Мане», «Лолá из Валенсии», «Музыка в Тюильри», «Завтрак на траве», «Олимпия» и другие, чуть менее знаменитые. По сути дела — великолепная ретроспектива, дух захватывает у современного любителя живописи, способного вообразить подобное зрелище. Какие очереди стояли бы нынче на подобную выставку в любой столице мира!
А Мане не может испытывать ничего, кроме тягчайшего разочарования: его картины в деревянном павильоне не поняты и осмеяны. На другом берегу Сены, в павильоне искусства Всемирной выставки, висит его портрет, написанный Фантен-Латуром. Портрет, при всей его светской респектабельности, показывавший Мане не только элегантным бульвардье, но человеком глубоко печальным: словно Фантен-Латур предугадал события в павильоне Альма.
Эдуар Мане. Казнь императора Максимилиана. 1867
Эдуар Мане. «Казнь императора Максимилиана». Выставка открылась 24 мая 1867 года. Через месяц в Париже становится известно о расстреле императора Максимилиана. С необычайной поспешностью и увлеченностью Мане пишет картину «Казнь императора Максимилиана» (три варианта, окончательный — 1867, Мангейм, Кунстхалле).
Сколько бы ни было пролито чернил касательно причин, побудивших Мане написать картину столь откровенно злободневную, жестокую и явно политическую, сколько бы ни приводилось доводов в пользу «демократических» убеждений художника, якобы возмущенного насильственным (тщаниями Наполеона III) водворением австрийского эрцгерцога на мексиканский престол, или, напротив, в подтверждение его отвлеченно-равнодушного отношения к кровавому сюжету, — все это остается не более чем попыткой логически объяснить спонтанный и амбициозный импульс художника.
Бездарная и бессмысленная казнь молодого — всего тридцати пяти лет от роду — малозначительного монарха [112], вряд ли (даже по законам военного времени) разумная и справедливая (если казни вообще могут быть таковыми), происшедшая в неведомой и малоинтересной художнику Мексике, — почему могло это стать темой большой, можно сказать, программной картины?! Давние воспоминания