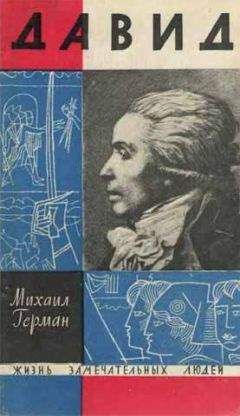где он не только уверенно становится в один ряд с лучшими мастерами, но и открывает аспекты мира, ведомые лишь ему одному и ему одному доступными средствами.
Самый молодой из импрессионистов (Гюстав Кайботт родился в год революции — 1848-й), он рос среди прелестных пейзажей Иль-де-Франса, уже захвативших воображение его старших собратьев: километрах в двадцати к югу от Парижа у семьи было имение на реке Йер с виллой Казен — домом в палладианском стиле. Узкая тихая речка, лес, фруктовые сады. В конце 1860-х его отец, стремительно богатеющий коммерсант, а затем судья Коммерческого суда, выстроил (как Аристид Саккар — герой Золя) особняк неподалеку от парка Монсо, на улице Миромениль. В доме, однако, роскошь не была показной и вульгарной, и жизнь там шла деятельная и достойная.
Унаследовав большое состояние, Гюстав Кайботт вместе с Марсиалем, своим младшим братом-музыкантом, поселился в просторной квартире на бульваре Осман. В ту пору, имея уже степень лиценциата права, Кайботт был опытным строителем яхт, но мог полагать себя и почти профессиональным художником. Видимо, еще до войны в павильонах Всемирной выставки 1867 года он с особым, тонким до болезненности даром восприятия смог ощутить грозную драму и гипнотические перспективы новейшего искусства. Освистанная живопись Курбе и Мане в их «оппозиционных» павильонах на правом берегу Сены, титулованные «помпьеристы», английские прерафаэлиты и Гюстав Моро, Уистлер… Исследователи отмечают два сильнейших влияния, заметные в искусстве молодого Кайботта: японская живопись и набиравшая силы фотография. И если о первой говорят и относительно импрессионизма вообще, то вторая имеет особое значение именно для Гюстава Кайботта: даже в его ранних композициях — странная нетрадиционность ракурсов и точек зрения. Однако он успел вкусить и традиционного художественного образования, занимаясь в ателье Леона Боннá. Бонна, вероятно, и представил Кайботта своему старому приятелю Дега, а тот ввел его в сообщество импрессионистов. Бонна, художник вполне академического толка, известный главным образом светскими портретами, сумел, однако, оценить произведения Эдуара Мане. Поклонник Энгра, отличный рисовальщик, Бонна никогда не мешал индивидуальной манере своих учеников, и, вероятно, Кайботт извлек немало пользы из его уроков.
В ранней картине Кайботта «Интерьер мастерской в особняке на улице Миромениль» (1872, частная коллекция) — пронзительное и странное сходство с картинами Моне (1861) и Базиля (1865) на аналогичный сюжет. Вероятно, приобщение к живописи посредством самого мотива и реминисценций Шардена, этого культа маэстрии, лежит в самой сути французской живописной культуры.
Первая картина, которую он послал в Салон (1874), была отвергнута («Пусть он извлечет хороший урок из этого обстоятельства, пусть занимается искусством и плюет на жюри, поскольку будущее за нами» [191], — писал Де Ниттис, узнав об этом событии). Естественно, Кайботт с радостью принял приглашение Дега и Ренуара на Вторую выставку импрессионистов (1876), где показал среди прочих работ знаменитую ныне картину «Паркетчики» (1875, Париж, Музей Орсе).
Может показаться, здесь есть всё от ригоризма репортажного жанра: избыточные подробности вплоть до тщательного изображения стружек на полу, инструментов, скрупулезная точность в прорисовке мышц, напряженных, усталых лиц; есть изображение тяжелого труда, нечто в русле «Прачек» Домье или «Каменотесов» Курбе, не говоря о «Гладильщицах» Дега, изображение «простых людей», торжество демократической темы. Все это по отношению к Кайботту столь же справедливо, сколь и нелепо. При всей своей доходящей до фотографизма иллюзорности, выраженной сюжетности Кайботт соприкасается с новейшими кодами ничуть не меньше, чем Мане или Дега!
Здесь, однако, — и, возможно, впервые в столь непререкаемом варианте — импрессионистическое восприятие мира синтезируется с сюжетикой и материальностью, доказывая универсальность новых кодов, которые вовсе не определяются пленэром и дивизионизмом. Мгновенность, острота ракурса и поз, свет, реализующий не только структуру композиции, но и становящийся главным торжественным мотивом; свет, чьи направленные к зрителю прихотливо и безупречно прорисованные и найденные по тону пятна организуют феерический праздничный ритм, второе и главное действие, торжествующее над земным сюжетом. Не растворяя жесткую материальность в светоцветовой плазме, как Моне или Ренуар, Кайботт прокладывает, сам того не ведая, путь к эстетике XX столетия, когда художники станут свободно соединять жизнеподобие с формальными эффектами. Абсолютная кинематографичность: изображение фигур сверху, только на фоне пола, подчеркнутая перспектива (словно бы с использованием широкоугольного объектива), волнующее своей пластической необычностью сочетание пространственных планов (крыши домов за окном за нежным и резким плетением балконной решетки) — все это в самом деле невиданное зрелище, еще не безупречный, но мужественный прорыв в эстетику наступающего века.
А следующая, Третья выставка 1877 года стала просто хоть и неведомым ему тогда, но подлинным триумфом Кайботта, к тому же и его детищем: он не только показал на ней свои этапные работы, но и являлся ее организатором. И поистине то была выставка, где царствовал дух квартала Европы!
Но пока еще весна 1876 года, и в квартале Европы сенсация: 15 апреля открылась персональная выставка Мане в его собственной мастерской. Мане продолжал свое мучительное единоборство с Салоном, который то отвергал его, то словно сознательно выставлял на посмешище. Но от участия во Второй выставке импрессионистов Мане отказался. «Жюри только что оказало ему услугу, отклонив два его произведения и восстановив тем самым его популярность в мире артистической богемы. Но почему бы не облагодетельствовать этими работами выставку его собратьев и друзей — импрессионистов? Почему бы не объединиться с этой бандой? <…> Какой блеск дало бы участие Мане этой банде проходимцев от искусства…» [192]
Независимо от поисков официального успеха и еще менее от того, в какой мере Мане причислен к импрессионистам (вопрос, с точки зрения автора, непринципиальный и праздный), все, что происходило в его ателье, — важнейшая и существенная часть истории импрессионизма. И выставка на улице Санкт-Петербург, 4, где он представил свои картины, в очередной раз отвергнутые Салоном, несомненно, существенная страница этой истории.
В предыдущем Салоне 1875 года его большой (149×131 см), необычайно широко и сильно открытым цветом написанный — несомненно, под прямым влиянием Клода Моне — холст, настоянный на чисто импрессионистическом видении природы, «Аржантёй» (1874, Турне, Музей искусств) вызвал очередной взрыв хулы: «Поток индиго, массивный, как железный брус, и аржантёйский пейзаж или, скорее, мармелад…» [193] Как всякий амбициозный и чувствительный к насмешке и неприятию человек, Мане не мог довольствоваться ободряющими суждениями немногих своих приверженцев. А Кастаньяри написал пророческие слова: «Он глава школы и оказывает неоспоримое влияние на известную группу художников, чем уже отмечено его место в истории современного искусства. В день, когда