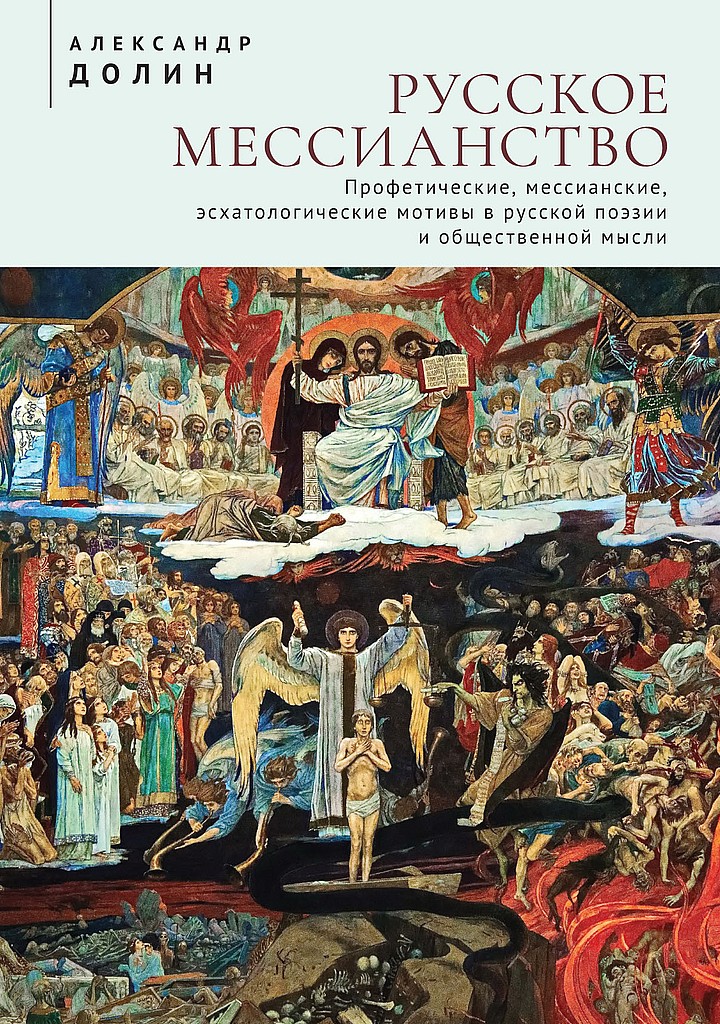Не обращал в побег пехоту.
Одно в убийстве он любил —
Перепелиную охоту.
……………………….
Застенчивый, простой и милый
Он вроде сфинкса предо мной.
Я не пойму, какою силой
Сумел потрясть он шар земной?
Но он потряс…
……………………….
А те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе
Должны заковывать в бетон.
Для них не скажешь:
Ленин умер.
Их смерть к тоске не привела.
Еще суровей и угрюмей
Они творят его дела….
(«Ленин», 1924)
Как явствует из этих строк, миф о «человечном» вожде, осчастливившем страну и потрясшем навеки все прочие народы мира, был уже абсолютно сформирован пропагандистской машиной к моменту смерти диктатора. Однако нельзя не заметить, что конец этой пространной эпитафии вождю звучит довольно двусмысленно, невольно воскрешая в памяти «тень Люциферова крыла» из блоковского «Возмездия». Возможно, он-то и отражает истинное отношение поэта к событиям.
Итак, от пророческого пафоса «Инонии» более нет и следа. Проза советской жизни не оставляет камня на камне от мужицкой утопии. Однако профетический запал еще не угас, и Есенин тщится примерить на себя иную роль — на сей раз уже не мужицкого пророка, но советского витии:
Я вижу все
И ясно понимаю,
Что эра новая —
Не фунт изюму нам,
Что имя Ленина
Шумит, как ветр, по краю,
Давая мыслям ход,
Как мельничным крылам.
(«Стансы», 1924)
Примеривание ролей вообще становится необходимым атрибутом социальной жизни большинства деятелей культуры в послереволюционные годы. За редкими исключениями почти все поэты, оставшиеся в России, безусловно, видели себя в роли герольдов нового строя. Это было вполне естественно для общества в период радикальных реформ — и не только для поэтов. Советская Россия и в массовом сознании поначалу представала как новое Беловодье, воплощение вековой народной мечты о счастье, и сверху рекламировалась приблизительно в том же качестве. Страна творила грандиозный новый миф из множества индивидуальных и коллективных мифов. Потребность в мифотворчестве и, соответственно, ролетворчестве была всеобщей. В искусстве и литературе перераспределение ролей шло не менее бурно, чем в политической сфере, и соблазн стать новым теургом, звездой на новом небосклоне был тем более силен для тех, кто был звездой прежде. Однако история все расставила по местам, и сыграть свои новые роли в советской действительности, по крайней мере при жизни, почти никому из бурных гениев Серебряного века не удалось. Те же, кому это все-таки удалось, принесли свое дарование в жертву социальному заказу.
В судьбе Есенина, как и в трагическом жизненном пути Блока, мы видим столкновение революционных интенций с мощными первородными потенциями искусства, которые в конце концов не позволили поэту пойти по ложному пути, воспевая бесчеловечный новый режим и его вождей. Оказавшись в «стране негодяев» и осознав этот факт, он пытался слагать оды враждебной народу власти, но так и не смог внутренне перейти рубеж, отделяющий честь от бесчестья, совесть от отсутствия совести, хотя некоторым его современникам это удалось.
Разрушение старого мира в чаянье нового обернулось для Есенина саморазрушением. Осознав тщету своих надежд, он искал утешения в стихах, вине, в дебошах, в случайных женщинах, в женитьбе, в дружбе с чекистами, снова в стихах, в вине и дебошах, и, наконец — в смерти. Раз осознав себя пророком и почувствовав Призвание, он не мог смириться с профанацией и осмеянием своих идеалов.
Друг и соратник Есенина по цеху имажинистов Анатолий Мариенгоф пытался теоретически осмыслить отношение художника к действительности в период революционных потрясений. Среди его весьма спорных и противоречивых тезисов есть одно интересное наблюдение. В 1920 г., когда новое искусство было на подъеме, а железные пальцы пролетариата еще не сомкнулись на горле художника, он провидчески заметил:
«По существу революционное государство испытывает сегодня перед искусством такой же страх, какой испытывала религиозная и светская власть перед бахарями — этими превосходнейшими частью поэтами, частью артистами древней Руси» ( ‹114>, с. 222). И действительно, уже первые бурные демарши авангардистов, стремившихся превратить улицы в кисти и площади в палитры, должны были вызвать внутренний протест большевистских властей, чьим идеалом был ригористский устав воинственного монашеского ордена. Мариенгоф обосновывает свою мысль тем, что искусство останавливает, замораживает в полете движение жизни. Но дело, конечно, не в этом — ведь многие великие социальные сдвиги сопровождались взлетом искусства и литературы и лишь очень немногие — гонениями и запретами. Новорожденное советское государство было царством сконструированной утопии — вначале красочной, а затем черно-белой. Свободному искусству в подобной утопии не было места, и потому любые проявления истинного таланта, даже если талант был готов верно служить отечеству, воспринимались с подозрением и опаской. В дальнейшем это отношение переросло в командно-административный стиль управления культурой, который и покончил с творческим поиском.
Ибо не молотят чернухи катком зубчатым, и колес молотильных не катают по тмину; но палкою выколачивают чернуху, и тмин — палкою.
(Исайя, 28:27.)
Если Есенин предстает несколько наивным и безобидным доморощенным пророком, нагадавшим родине совсем не ту долю, что ей в действительности досталась, то футуристы и их единомышленники в искусстве в послеоктябрьский период выступили в роли демиургов раннесоветской культуры, апологетов нового правопорядка. Своими руками они создавали миф о благостной и долгожданной социалистической революции, облекали этот миф в поэтическую плоть, пропагандировали его в массах трудящихся. Они сотворили кумира, золотого тельца Свободы, а кумир требовал все новых и новых жертв во имя призрачного коммунистического Завтра. По иронии судьбы, футуристским пророкам, мечтавшим об освобождении человечества, о том, чтобы в мире «жить единым человечьим общежитьем», предстояло стать жрецами, а отчасти и жертвами кровавого большевистского Молоха. Конечно, они не предполагали столь катастрофических последствий. Они в большинстве не читали статей Мережковского и Бердяева, предупреждавших о гибели культуры, а если читали, то смеялись над «наивными» авторами, торопясь объявить их безнадежными ретроградами.
Они давно собирались покончить с предшественниками, сбросить классиков «с парохода современности» и перекроить человечество заново, хотя едва ли могли мечтать, что история предоставит им такую возможность. Еще задолго до того, как железный молот футуризма после октябрьского переворота нанес сокрушительный удар по культуре старого мира, Борис Пастернак (также в то время к футуристам причисляемый) в своем панегирике новому движению, сам того не подозревая, пророчески определил его суть как сознательную «обездушенность»: «Жизнь