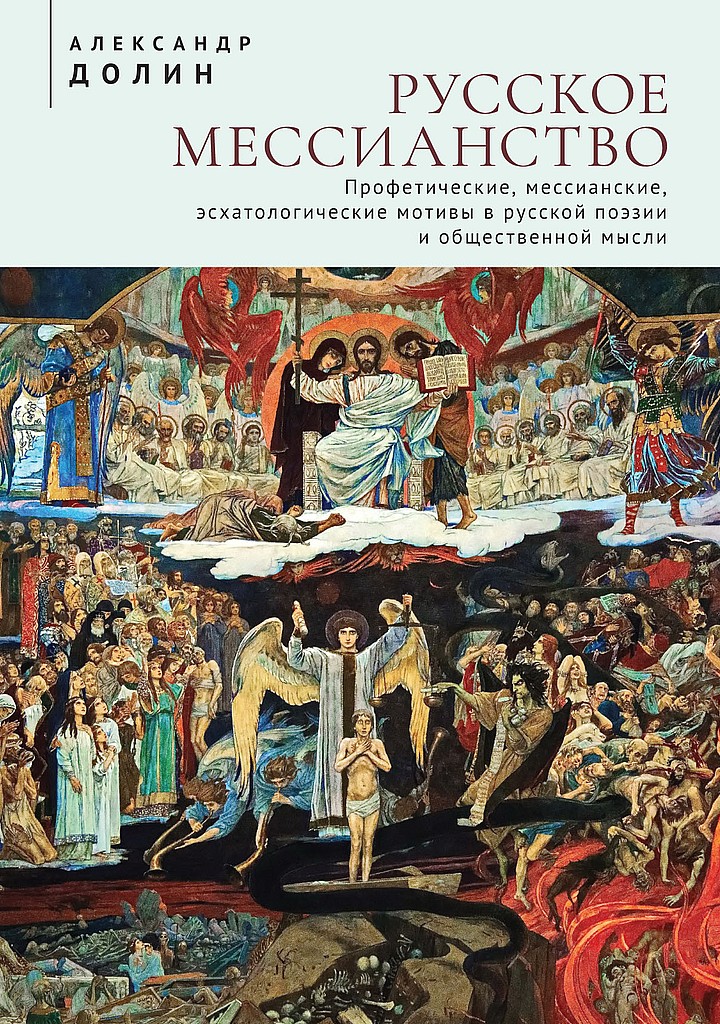и смерть, восторг и страдание — ложные эти наклонности особи — отброшены. Герои отречения, в блистательном единодушии — признали вы состояния эти светотенью самой истории и вняли сокрушительному ее внушению…» (
‹149>, с. 130).
Деструктивный энергетический заряд русского футуризма был особенно очевиден на фоне других, конструктивных, течений и школ Серебряного века, которым он бросал вызов и которые призывал уничтожить. В своей борьбе против «буржуазного» искусства., за торжество «самоценного (самовитого) слова» футуристы готовы были — поначалу, разумеется, только на словах — уничтожить все культурное наследие прошлого, чтобы начать «с чистого листа». Их ранние манифесты, в отличие от пассионарных, но не столь агрессивных манифестов итальянского футуризма, вполне соответствуют понятию «пощечина общественному вкусу» и призваны в первую очередь эпатировать блюстителей норм этики и эстетических канонов — будь то обыватель-буржуа или мэтр символизма Валерий Брюсов.
Пафос тотального отрицания, особено в послеоктябрьский период, составляет сущностное отличие футуризма и всего послереволюционного авангарда от прочих течений школ Серебряного века. Если весь предшествующий опыт цивилизации был опытом кумулятивного развития, то авангардистский экстремизм стремился этот опыт перечеркнуть и начать с чистого листа. В известном смысле футуристы, ничевоки и прочие школы этого направления были большевиками от искусства, возжелавшими отменить старый мир во имя смутно брезжущей утопии.
«Монополизируя знание о реальности, поэзия футуристов стремилась не вобрать в себя элементы соседних или прежних стихотворных образований, но переструктурировать их по своему подобию, что могло даже приводить к мысли о праве на административное вмешательство в художественную деятельность, соперничавшую с футуристической», — пишет И. П. Смирнов, ссылаясь на жанр «приказов» у Хлебникова и Маяковского ( ‹177>, с. 105). Однако жанром «приказов» воинственный пыл футуристов удовлетвориться не мог, поскольку их ближайшей и конечной целью было не переустройство, а именно уничтожение старого и замена всего «реакционного» искусства прошлого собственными шедеврами. Можно только удивляться, что им удалось уничтожить так мало при столь непомерных амбициях. Например, талибам в Афганистане удалось в кратчайший срок добиться более впечатляющих результатов.
Абстрактные понятия «будущее», «поэзия будущего», «общество будущего» в программных манифестах футуристов противопоставлялись конкретному прошлому и настоящему со всем массивом их культурных достижений. Корней Чуковский совершенно справедливо определил характер нового течения: «Ясно, что наш футуризм в сущности анти-футуризм. Он не только не стремится с нами на верхнюю ступень какого-то неотвратимого будущего, но рад бы сломать и всю лестницу. Все сломать, все уничтожить, разрушить и самому погибнуть под осколками — такова его, по-видимому, миссия» ( ‹218>, с. 125).
Четырьмя годами позже Сергей Есенин в своем теоретическом трактате «Ключи Марии» дал уничтожающую характеристику достижений футуризма, который, по его мнению, являлся типичным порождением антикультуры, глубоко враждебным традициям русской духовности: «…Свернул себе шею на своей дороге и подглуповатый футуризм. Очертив себя кругом Хомы Брута из сказки о Вие, он крикливо старался напечатлеть нам имена той нечисти (нечистоты), которая живет за задними углами наших жилищ. Он сгруппировал в своем сердце все отбросы чувств и разума и этот зловонный букет бросил, как „проходящий в ночи“, в наше, с масличной ветвью ноевского голубя, окно искусства. Голос его гнойного разложения прозвучал еще при самом таинстве рождения урода. Маринетти, крикнувший клич войны, первым проткнулся о копье творческой правды. Нашим полдголоскам Маяковскому, Бурлюку и другим, рожденным распоротым животом этого ротастого итальянца, движется, вещуя гибель, Бирнамский лес — открывающаяся в слове и образе доселе скрытая внутренняя сила русской мистики» ( ‹74>, т. 5, с. 208).
Эти суждения Есенина относятся к тому периоду, когда он вынашивал и воплощал замыслы создания своих профетических поэм, которые и должны были воплотить всю мощь «русской мистики». Однако его сообщение о кончине футуризма было преждевременно.
Революция в искусстве, о которой так долго твердили футуристы, свершилась одновременно с Октябрьским переворотом, который перечеркнул и обрек на уничтожение многовековое наследие российской государственности. До Октября авангардистские течения в русской литературе и искусстве представляли всего лишь одну, далеко не самую яркую, маргинальную грань культуры. Основное авангардное направление, футуризм, рассматривалось в культурном социуме как enfant terrible, имело крайне ограниченный круг поклонников и в атмосфере блестящего Серебряного века обладало весьма скромной конкурентоспособностью.
Изначально футуризм был задуман как игра — игра в контркультуру. Эпатажные манифесты и хэппенинги, вызывающее поведение в литературных кругах, отрицание классики и оскорбление собратьев по перу из других школ, пропаганда нонсенса, абсурда, алогизма, «самовитого» слова и звука — все было рассчитано на скандальный успех. Протест против «мещанства», то есть нормального упорядоченного существования, столь ненавистного ревоюционно настроенным лучшим умам России, неизбежно должен был снискать симпатии определенного круга читателей и зрителей, особенно левой студенческой молодежи. Однако в условиях предреволюционного культурного ренессанса торжество футуризма над прочими течениями было невозможно. Сами футуристы прекрасно это сознавали и довольствовались игрой в тотальный нигилизм. Их ориентация на абстрактное «будущее» давала условное право на отрицание конкретного прошлого и настоящего — отрицание игровое, поскольку никаких шансов на реализацию оно не имело, и оттого тем более категорическое.
Октябрьская революция смела наследие старого мира. Большевики стремились к тому, чтобы превратить сознание масс в чистый лист, на котором можно было бы написать новые иероглифы. Классическая русская культура и философия были тормозом на пути осуществления этого замысла. Новое правительство, возглавляемое достойными учениками Макиавелли, изыскивало всевозможные способы для преодоления культурных «завалов» в кратчайшие сроки во имя осуществления культурной революции. Конечно, некоторых поэтов можно было расстрелять, некоторых философов можно было выслать на пароходе, некоторые писатели сами бежали на Запад, но до чистого листа было еще далеко. Для этого надо было пройти хотя бы признание «черного квадрата» как вершины русской живописи, используя футуристический локомотив со взрывчаткой для уничтожения старых эстетических, а заодно и этических критериев. Авангардистский экстремизм был полезен новым властителям России, а для самих участников авангардистского штурма протекция властей открыла все врата в крепость Большой Культуры, принудив гарнизон к капитуляции.
Гении русского авангарда принципиально отрицали культурное наследие и не желали признавать проверенного тысячелетиями кумулятивного пути развития цивилизации. Уничтожение памяти было условием развития их искусства (что совпадало с основной установкой большевизма). Эсхатологичность революции, разрушающей до основания старый мир, поначалу отвечала самым сокровенным чаяниям авангардистов. Многие из них открыто выступали за разрушение культурного наследия. Ныне полузабытый драматург А. Амфитеатров ратовал за снос памятников, театральный художник В. Дмитриев высказывался за уничтожение классической живописи. Казимир Малевич, утверждая, что «пролетариат творец будущего, а не наследник прошлого», настаивал на том, что разрушать — это и значит создавать, требуя стереть с лица земли старые