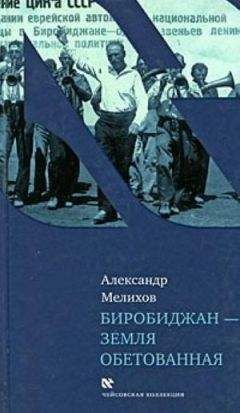вопрос. Впрочем, не такой уж большой – конечно, нет. Честнее – да. Но честность по отношению ко вселенной вполне может наделить правом на бесчестность по отношению к человеческому муравейнику – так что интуиция и здесь не подвела писателя, он не случайно избегал опасных космических тем.
Снобизм ему был тем более чужд.
«Охваченный тщеславием, я стал сниться с претензией на непонятность. Это было легко. Достаточно было перед сном вообразить себя сложной натурой, страдающей и гонимой, тонкой и впечатлительной, а главное – духовно богаче большинства современников. Главное было – разрешить себе все. Сны изобиловали символикой и невнятностью мысли».
Претит ему и интеллектуальное высокомерие: в мире-де нет почти никого, кроме идиотов, и мыслящей личности следует посвятить жизнь тому, чтобы неустанно от идиотов отмежевываться. Он вглядывается в брейгелевских слепцов и понимает, что Брейгель был слишком великим художником, чтобы презирать людей: «Это дело самое простое. Сострадание, любовь – только не презрение».
А слава? «Громкая популярность никогда не бывает заслуженной».
В какие-то минуты он, наверно, относил и к себе эти обличительные слова: «Ты не осмеливался назвать себя художником внутри. Про себя. А знаешь – почему? Думаешь, я скажу – от скромности?.. Нет. От боязни ответственности. Осознать себя художником – это значит осознать ответственность. Значит, халтурить уже нельзя, лениться нельзя, кое-как – нельзя, бездумно – нельзя! Понял?! А ты хотел так – играючи, шутя. Мол, я не я и песня не моя!»
Как Житинский на эти обвинения отвечал себе самому, можно только гадать, рвать рубаху на груди он был не склонен.
Но вот как он назвал собственное предисловие к «Сказкам» – «Маленькая изящная словесность».
Предисловие начинается так.
«На необъятных просторах нашей родины есть такие места, где живут племена, совсем недавно получившие письменность. Как правило, у таких народов есть всего один писатель, который создал литературу этой народности – стихи и прозу, реализм и фантастику, драматургию, сатиру и юмор».
Житинский действительно поработал во всех этих жанрах и начинал (да и не прекращал до конца) как очень хороший поэт.
«Вот и автор этой книги, начавший сочинять стихи в довольно зрелом возрасте, заканчивая уже Политехнический институт, встал перед необходимостью создать свою маленькую словесность для людей своего племени, которых можно назвать весьма общо научно-техническими интеллигентами.
…Он просто писал для своего немногочисленного народа то, что ему хотелось, а народ внимал ему – когда благосклонно, а когда с некоторой рассеянностью. Народ был симпатичным, но вымирающим, вот в чем дело.
Тем не менее можно сказать, что маленькая изящная словесность была создана, и в этой книге можно найти ее немалую прозаическую часть. Что же касается народа, для которого работал автор, то есть слабая надежда, что у него еще не совсем отсохли мозги, что он не навсегда оглушен победительным звоном бабла и не охамел настолько, чтобы считать себя венцом творения».
Я тоже на это надеюсь. Хотя «инженерский» цикл Житинского, с милым юмором изображающий жизнь советского научно-технического учреждения, боюсь, скоро можно будет переиздавать в серии «Литературные памятники». Он уже сейчас обрел черты трогательного ретро, в котором даже командировки научных работников в помощь сельским труженикам оказываются вполне забавными.
Не могу удержаться от обширной выписки, чтобы те, кто забыл, вспомнили и стиль Житинского, и тогдашний научный быт (в математическом интернате, где когда-то учился мой младший сын, за этими повестями выстраивалась очередь).
«Летом у нас на кафедре тихо, как в санатории. Если по коридору летит муха – это уже событие. Преподаватели в отпуске, студенты строят коровники в Казахстане, а мы играем в настольный теннис. Мы – это оставшиеся на работе.
…В жару работать вредно. Об этом даже в газете писали. Предупреждали, что не следует злоупотреблять. Поэтому я начал полегоньку. Сел за лазер и плавными движениями стал стирать с него пыль. Я старался, чтобы пыли хватило до конца рабочего дня.
Тут вошла Любочка, наш профорг. Она меня долго искала между шкафами, но все-таки нашла. Любочка очень обрадовалась и сказала:
– Петя! Какое счастье! От кафедры нужно двух человек в совхоз на сено. На две недели. Дело сугубо добровольное. Ты ведь в отпуске еще не был? Это то же самое. Даже лучше».
И никаких гражданских протестов типа «каждый должен заниматься своим делом» – все равно ведь маялись от безделья. Да и на природе не собираются надрываться.
«Дядя Федя, стеклодув, сидел рядом со мной и уже строил планы. Тематически его планы всегда известны. Но он умеет их разнообразить нюансами.
– Лучше брать с собой, – сказал дядя Федя. – Чтобы там зря не бегать».
Кстати сказать, такое изображение рабочего класса в советскую пору считалось смелым и сатирическим. Это я говорю отнюдь не в обиду Житинскому, а в обиду тем идиотам, которые нами правили. Они завалили нас такой непродыхаемой ложью, что вздули цены на правду буквально до небес. То есть бытовая правда заменила небеса, и Житинский в этом царстве серости выглядел прелестной экзотической бабочкой.
Надеюсь, что и народ, для которого он писал, еще не вымер до конца, и Житинского можно считать не одним из последних, а хотя бы одним из предпоследних могикан.
Война и мир Григория Померанца
В дарственной надписи к «Запискам гадкого утенка» (М., 2003) – «А.М. в знак дружбы и принадлежности к одной коллегии литераторов» – Григорий Соломонович назвал себя литератором. Как Ленин. Не философом и не общественным деятелем, кем он несомненно являлся. И в этом тоже выразилась его – нет, не скромность, а его давний-давний отказ претендовать на какую-то социальную роль. А кому хочется – пускай ищут для него иерархическую лестницу и ступеньку на ней, ему же это безразлично. Столь последовательный отказ от позы у кого-то мог бы сделаться новой позой, но Померанц настолько привык жить в вечности, что борьбой за место в людских мнениях его расшевелить было просто-таки невозможно.
Он и внешне настолько не желал изображать хоть малейшую молодцеватость, что, прогуливаясь с ним зимой, особенно в темноте, я всегда испытывал желание поддержать его под локоть, – останавливало лишь воспоминание, что на фронте же и в лагере он как-то обходился без моей поддержки.
И обрел международное имя, работая библиографом.
Попробую обрисовать этот удивительный путь пунктиром цитат.
«С тех пор как я себя помню, я не такой, как надо. Мальчику надо быть смелым, ловким. А я был робким и неуклюжим. Никогда не мог научиться играть в чехарду, перепрыгнуть через козла. И главное, на пляже, в трусиках меня