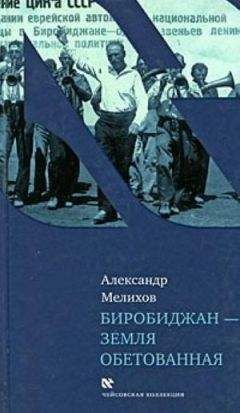Фактор джокера не позволяет заранее предсказать развитие.
Что джокер – это карта, которая по желанию игрока может стать любой другой, повествователю было известно и раньше. Новым для него оказалось употребление этого термина в современной информатике. Когда в системе возникает неопределенность, джокер неожиданным появлением может ее выправить, объясняет ему один из студентов, Пашкин. Джокера можно выявить где угодно: в политике, в общественной жизни, в искусстве, в бизнесе, которым кое-кто из студентов занимается без отрыва от учебы – джокер вступает в игру там, где нужны нестандартные решения, нестандартные уровни. «Кто-то должен их задавать, а значит, не обойтись без иерархии. Если угодно, аристократии», – декларирует Пашкин.
При слове «аристократия» я снова слегка вздрогнул: необходимость новой аристократии тоже постоянная тема моей публицистики, – см., например, «Аристократия и национальная идея» («Октябрь», № 8, 2007). Но по-настоящему я изумился, когда в мощном харитоновском романе «Увидеть больше» некая говорящая голова на экране заговорила буквально моими словами: «Вся наша жизнь, личная и общественная, вся человеческая культура, история, строится на индивидуальных и коллективных фантомах, грезах, иллюзиях. Когда мы говорим о конфликте между реальностью и иллюзиями, это, как ни смешно, уже иллюзия. Реален лишь конфликт между разными иллюзиями. Нации, государства порождаются системами коллективных иллюзий, они исчезают, когда система распадается, рушится. Великий некогда Рим погубили не нашествия варваров, пришельцы прекрасно вписывались в могучую империю, становились ее гражданами, даже правителями. Рим погубила всего лишь другая религия, новая система иллюзий, мечтаний, грез». Однако роман этот требует отдельного серьезнейшего разговора (говорю же, что Харитонову нужен свой Шестов), а мне дай бог как-то обрисовать «Джокера».
Пересказать хотя бы его сюжет трудно еще и потому, что пришлось бы заранее выдать читателю развязку, что по отношению к повествованию, выстроенному как детективная история, делать особенно непозволительно. А начинается приключение с того, что к герою-преподавателю приходит для пересдачи зачета на дом один из отмеченных им молодых людей, рыжий Тольц, прикрывающий нос и рот окровавленным платком, а на его лбу и скуле наливается цветом обширная ссадина. «Упал, ударился? С кем-то подрался? Мычал сквозь платок нечленораздельно. Пришлось провести его в ванную, направляя, придерживая за плечо, – беднягу пошатывало». Выясняется, однако, что студент по пути к профессору разбился на машине, – не наркотиком ли накачался? Это подозрение держится до самого конца. Рассказчик отвлекается на другие темы: о семейной жизни, о жене, о деревне, в которой он однажды побывал вместе с ней, о евреях-родителях, время от времени возвращается к истории с проваленным зачетом (Тольц продолжает дремать в соседней комнате). Пока еще неясно, почему студент на зачет опоздал. Реферат, который он тогда принес, оказался, как можно подозревать, списанным. Но преподавателю и это не помешало бы поставить студенту зачет, если бы тот не прошелся критически о его костюме, несовременном с точки зрения молодых людей. Преподавателю хотелось бы достойнее выглядеть перед девушкой, к которой он не совсем безразличен. Сама девушка, Лиана, тоже довольно загадочна. Опоздавший на зачет Тольц появляется в аудитории, когда она уже собирается уходить. «Лиана, поравнявшись с ним, вдруг пихнула юношу локтем в живот, больно, рыжий даже согнулся. Я сам невольно вздрогнул от неожиданности. Это что, у них такая манера здороваться? Или какие-то неизвестные мне счеты?»
В сюжете возникают все новые загадки. Почему-то за Тольца вступается ректор, просит преподавателя все-таки побыстрее принять у студента зачет. Похоже, с семьей студента ректора связывают какие-то давние, тоже до конца неясные отношения. Родители вынуждены были уехать за границу, им грозил какой-то криминальный наезд. И вдруг они потребовали, чтобы и сын срочно присоединился к ним. За него, можно понять, они тоже боятся. «Чего?» – все интереснее становится читателю…
Однако ничуть не менее интересен комплекс идей, «сквозных», кстати сказать, для всего творчества Марка Хари- тонова.
Научный руководитель главного героя, профессор Ласкин, обращает однажды его внимание на творчество давно забытого провинциального бытописателя Богданова. До героя-повествователя не сразу доходит, что «этот самый Богданов был выведен под псевдонимом в нашумевшем лет двадцать назад романе». Автор здесь позволяет себе своего рода литературную мистификацию: мало кто из читателей вспомнит, что Богданов – это была настоящая фамилия Милашевича из букеровского романа Харитонова «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича». У Харитонова вообще так много перекличек и с самим собой, и даже с пишущим эти строки, что уловить некоторые из них по силам, пожалуй, только литературоведу, готовому прочесть сложную книгу не единожды.
Как напоминает читателю «Джокер», Симеон Милашевич, почти не замеченный при жизни сочинитель начала прошлого века, «был не просто провинциальным бытописателем, он создал своеобразную… философию – философию провинциального счастья». «Чтобы все были счастливы, объяснял в своих сочинениях философ, надо не допускать крайних бедствий, голода, нищеты, но давать людям возможность жить в скромном равенстве, без зависти, без соперничества и не в последнюю очередь с убеждением, что им лучше всех – другим хуже. Отгороженность в пространстве и во времени позволит обходиться без сравнений, без достоверных знаний об остальном мире, как и о собственном прошлом». Но это же ровно та формула счастья, над которой глумится мой Каценеленбоген в «Изгнании из Эдема»!
Мой герой полемизирует не только с героями прозы, но и с героем-повествователем публицистики Харитонова (хорошая публицистика, на мой взгляд, тоже художественное произведение). В недавнем эссе «Торжество провинции» сказано: «Провинциальное мироощущение в стране, однако, до конца не было преодолено. После короткой попытки войти на равных в большой мир, стать его частью, оно в самые последние годы стало у нас вновь культивироваться, набирать силу. Россию стараются всячески отдалить, отгородить от Европы, объявляют залогом ее превосходства провинциальную самодостаточность на основе некой особой «духовности». Отмечено что-то родственное идеологии корейского чучхе, «опоры на свои силы», когда для народного ликования важней обладать собственной атомной бомбой, чем есть досыта. «Провинциальный империализм» – такой напрашивается оксюморон». Но для героя моего романа «И нет им воздаяния» все обстоит ровно обратным образом: сделаться второстепенной частью чего-то большого и сильного и означает превратиться в провинцию, а обрести историческую субъектность, пусть даже ценой относительной изоляции и бедности, означает выбраться из исторического захолустья. Я совершенно не утверждаю, что это правильно, но так, мне кажется, чувствуют многие, а мое дело их слышать.
Я прекрасно слышу и Марка Харитонова, и то, что столь серьезного и глубокого писателя волнуют те же проблемы, что и меня, дает мне надежду, что и я занимаюсь не пустяками.
Название книги Леонида Млечина «Адольф Гитлер и его русские друзья» (М., 2006), разумеется, саркастическое