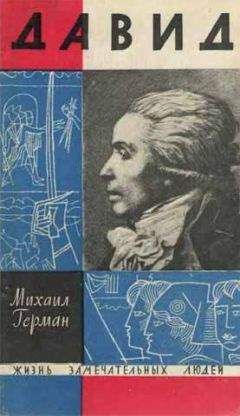эволюции позднего «русского импрессионизма», чаще тяготеющего к эффектной декоративности, как у Жуковского и Виноградова.
Сергей Арсеньевич Виноградов, как и Коровин, ученик Поленова, и Станислав Юлианович Жуковский, учившийся в свою очередь у Коровина, Архипова, Левитана и Серова, — художники тонкого, но не масштабного дарования. Усталый русский «этюдизм» медлительно истаивал, модифицируясь в систему декоративного продуманного колоризма. Порой «русский импрессионизм» становился «технической основой» меланхолических мечтательных пейзажей (С. Виноградов. «Весна», 1902, Москва, ГТГ; «Усадьба осенью», 1907, там же; С. Жуковский. «Весенняя вода», 1898, Санкт-Петербург, ГРМ; «Плотина», 1909, там же). Из средства освобождения он постепенно становился лишь приемом, всецело подчиненным той или иной сюжетике, даже стилистике. Его последняя историческая роль, краткая и впечатляющая, — существование в корневой системе авангарда.
Константин Юон. Весенний солнечный день. Сергиев Посад. 1910
«Русский импрессионизм» как протоавангард — явление совершенно иного исторического смысла, чем эмпирический импрессионизм Коровина. И здесь его роль близка той, которую он сыграл в транснациональном художественном процессе, — роль «чистилища» на пути к эксперименту.
Импрессионизм в творческом пути К. С. Малевича представляется естественной вехой на пути к освобождению от предметности, особенно для художника, взращенного в провинции, на хрестоматийных образцах отечественного традиционного реализма. В юности Малевич учился в Киевской рисовальной школе, знал Репина и Шишкина (и то по репродукциям). Однако еще до первой поездки в Москву (1904) он постепенно заинтересовывался идеями импрессионизма. При его гигантском таланте и огромном запасе жизненных сил реакция на новое искусство была бурной. Трудно понять, как, не видя оригиналов ни импрессионистов, ни Сезанна, возможно было столь серьезно воспринять их уроки. Но Малевич обладал божественным чувством современности, и это подготовило его восприятие к стремительному погружению в стихию новейших течений.
«…Я наткнулся на этюдах на вон из ряду выходящее явление в моем живописном восприятии природы. Передо мной среди деревьев стоял заново беленный мелом дом, был солнечный день, небо кобальтовое, с одной стороны дома была тень, с другой — солнце. Я впервые увидел светлые рефлексы голубого неба, чистые прозрачные тона. С тех пор я стал работать светлую живопись, радостную, солнечную… С тех пор я стал импрессионистом» [359].
Правда, его «импрессионистические» вещи написаны настолько тяжелым и вязким мазком, с таким ощущением веса пространства, что невольно вспоминается Писсарро, а более всего Сезанн с его пейзажами в Экс-ан-Провансе. В картине «На бульваре» (1903, Санкт-Петербург, ГРМ) сосны кажутся едва ли не скопированными с Сезанна, а летучие пятна солнца на земле написаны столь густо и пастозно, что свет кажется не менее материальным, чем сама земля. Для Малевича импрессионизм стал естественным опытным полигоном новейшего искусства, куда он с поспешностью увлекающегося гения ввел и элементы сезаннизма. В большинстве работ первой половины 1900-х годов Малевич строит пространство, избегая диагоналей, располагая планы параллельно картинной плоскости с величавостью проторенессансного монументалиста. Даже в самых легких, нежных, почти пастельных пейзажах он сохраняет подспудную угрюмую торжественность, пластическую «одичность» («Цветущие яблони», 1904, Санкт-Петербург, ГРМ). Это, казалось бы, совершенно ясная, еще вполне фигуративная лирическая вещь, однако в ней уже есть бескомпромиссная структурированность, ее предметный мир сведен к объемным, но слегка уже уплощающимся формулам.
Яркие локальные светло-алые пятна в картине «Цветочница» и в этюде к ней (обе 1903, Санкт-Петербург, ГРМ) воспринимаются как супрематические инкрустации в импрессионистической картине. Предчувствие будущих свершений или иные причины [360] делают эти картины странным смешением грядущего и прошлого и позволяют ощутить органичность прорастания супрематизма из картин начала 1900-х годов («Весна — цветущий сад», 1904, Москва, ГТГ).
Казимир Малевич. Весна — цветущий сад. 1904
«В своей студии-саду я продолжал работать импрессионизм, — пишет Малевич, вспоминая время после поездки в Москву в 1904 году. — Я понял, что не в том суть в импрессионизме, чтобы тютелька в тютельку написать явления или предметы, но все дело заключается в чистой живописной фактуре… Анализируя свое поведение, я заметил, что, собственно говоря, идет работа над высвобождением живописного элемента из контуров явлений природы и освобождением моей живописной техники от „власти“ предмета… Натурализация предметов не выдерживала у меня критики, и я начал искать другие возможности не вовне, но в самом нутре живописного чувства, как бы ожидая, что сама живопись даст форму, вытекающую из живописных качеств, и избегнет электрической связи с предметом, с ассоциациями неживописными» [361].
Исчерпанность, кризис жизнеподобной формы, постепенное усиление альтернативной системы ценностей при сохранении внешних качеств импрессионистической палитры — все это с особой отчетливостью проявилось в картине «Девушка без службы» (1904, Санкт-Петербург, ГРМ). Фигура женщины отчетливо модифицируется в сурово-гармоническое пространственно-объемное построение, в некую структуру сияющих напряженными соцветиями объемов, вовсе не связанных ни с сюжетом, ни даже с самой героиней.
Импрессионизм остался в корневой системе искусства Малевича 1900-х годов как одна из драгоценных, но тем не менее безвозвратно уходящих в прошлое составляющих.
Своего рода эпилогом «импрессионистического» периода Малевич сделал картину «Сестры» (1910, Москва, ГТГ). Со свойственной ему уже в те годы многозначительностью он написал на обороте холста: «„Две сестры“ писаны во время кубизма и сезаннизма. Под сильным ощущением живописи импрессионизма (во время работы над кубизмом) и чтобы освободиться от импрессионизма я написал этот холст». Специфическое сочетание лиловых, ржаво-красных и холодно-зеленых цветов, лепка формы краской, а не тоном, использование незаписанного холста, плотная, тяжелая уплощенность пространства — это, разумеется, близко именно Сезанну: если импрессионизм помогает обрести художнику свободу, то Сезанн помогает ему обрести самого себя. Художник пропускает сквозь свой темперамент уже не натуру, а способы ее интерпретации своими предшественниками, чтобы обрести наконец собственное видение.
Единственным художником авангарда, не просто всерьез увлекшимся импрессионизмом, но и глубоко его воспринявшим и принципиально интерпретировавшим, был Михаил Ларионов.
«Ни один из русских „импрессионистов“ тех годов не осознавал в такой полноте, как Ларионов, единства живописной поверхности; основной закон живописного построения, в силу которого поверхность не должна быть разрушена взрыванием отдельных планов, последовательно осуществляется Ларионовым во всех его работах. <…> В отличие от большинства русских подражателей импрессионизму, Ларионов, как сказано, с исключительной полнотой ощутил это основное свойство импрессионизма… в отличие от огромного большинства русских импрессионистов, для Ларионова импрессионизм стал не методом и