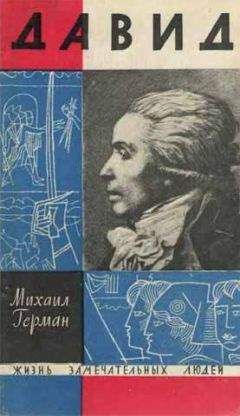традиционно понятой иерархии жанров — то ли сцена в саду, то ли групповой портрет. Базиль артистичнее, изысканнее, Коровин наивнее и темпераментнее. Можно было бы упомянуть и знаменитый «Портрет Сислея с женой» Ренуара, который, несомненно возвышаясь своей маэстрией над Базилем, все же близок к корневой системе портретов-сцен, если угодно, нового варианта того, что в эпоху Хогарта называлось «Conversation Pictures». Но еще больше сходства неожиданно ощущается у этой картины Коровина с прелестной работой Мэри Кэссет «Чай» (ок. 1880, Бостон, Музей искусств), которая вряд ли могла быть известна русскому художнику. Все это говорит более всего о чуткости Коровина к общей атмосфере времени.
Сравнивая две коровинские работы разных лет — «Парижское кафе» (1892–1894, Москва, ГТГ) и «Кафе в Ялте» (1905, там же), нетрудно убедиться: «парижское вещество живописи» становится универсальным и взгляд Коровина (как позднее многих художников даже самой радикальной направленности, будущих мастеров авангарда) полностью порабощается импрессионистическим видением: «Хорошо пишут французы… Больно уж техника ядовита — ничего после написать не можешь» [353].
Впрочем, неизвестно, кем именно восхищается Коровин. Виртуозно написанные натурщицы в мастерской («В мастерской художника», 1892–1893, Москва, ГТГ, и др.) позволяют скорее вспомнить не столько классиков импрессионизма (уже сходящих, кстати сказать, со сцены и не часто появляющихся на выставках), сколько тех блистательных мэтров парижского Салона, что эффектно использовали импрессионистические приемы для живописи милых и занимательных сюжетов. Усталые барышни на картинах Коровина, как это ни парадоксально, заставляют вспомнить, что начало 1890-х годов — время парижских дебютов Дж. Больдини, возникновения нового типа персонажей — будущих героев Пруста — и первого успеха светских портретов.
В подобных картинах Коровина присутствует та поверхностная занимательная привлекательность, та милота, которая вовсе импрессионизму не была присуща.
Русская критика недовольна: «…Молодой художник стал безусловным рабом не совсем оригинальной, но более знакомой Западу, чем нам, манеры письма. Мы боимся: К. А. Коровин идет по скользкому наклону условности (курсив мой. — М. Г.), ведущей прямо к живописному уродству…» [354] Подлинный крест русской критической традиции: убеждение в том, что условность дурна. Впрочем, здесь тонким ценителем современного искусства показал себя художник, казалось бы всецело разделявший пристрастия Стасова, — Василий Суриков: «Как много вкуса и как много правды в его красивых красках!» [355]
Коровин смог остаться самим собой. Даже когда начал писать Францию чаще, чем Россию. Его Париж, конечно, не отличается абсолютной оригинальностью, но темпераментная кисть художника сохраняет ту непосредственность, которая придает его картинам особую, пылкую этюдность. С особенным интересом относился Коровин к Писсарро. И надо полагать, что именно пространственная выстроенность работ старейшего импрессиониста, его близость сезанновскому пониманию пространства могли более всего занимать художника, воспитанного в России.
Константин Коровин. Парижское кафе. 1892–1894
«Его неудержимо манили к себе сверкающие тысячами огней парижские бульвары… Особенно притягательны они были для него поздними вечерами и ночами!» [356] (В. М. Лобанов). Быть может, именно здесь бывал он более всего импрессионистом, когда старался захватить мгновенный эффект ночных огней и писал с лихорадочной быстротой.
«Париж. Кафе де ла Пэ» (1906, Москва, ГТГ), «Париж ночью. Итальянский бульвар» (1908, там же). Мазок необычайно энергичен и плотен, картины, как правило, написаны alla prima, и впечатление современного, тревожно-праздничного города передано с редкой силой, заставляющей вспомнить лучшие страницы русской прозы о Париже [357].
В какой-то мере совмещая уроки картин Коро, с их рассветами, и городских пейзажей импрессионистов, писал Коровин и утренний, еще спящий Париж («Париж. Утро», 1906, Москва, ГТГ). «И утром, на улицах, народу мало, везде неубранный мусор, пустые столики кафе, и надо всем этим ни с чем не сравнимый, перламутровый, парижский отблеск, необыкновенный парижский колорит, который никакой краской не передашь, и только трепещешь перед ним» [358] (В. М. Лобанов).
Константин Коровин. Париж ночью. Итальянский бульвар. 1908
Импрессионистическая легкость, а порой и лихость в работах Коровина, сохраняя этюдную небрежность, вносила в иные постановочные портреты живость и веселую маэстрию, но не передавала того главного, к чему стремились классики импрессионизма, — драгоценного эффекта мгновенного состояния. Знаменитый «Портрет Ф. И. Шаляпина» (1911, Санкт-Петербург, ГРМ) несет в себе черты своего рода академизма: прием, широкий мазок — все это кажется скорее послушным следованием рецепту, нежели плодом сиюминутного вдохновения.
Константин Коровин. Портрет Ф. И. Шаляпина. 1911
А главное, даже самый широкий, внешне небрежный, импровизированный мазок Коровина сохраняет если не прямую связь с предметом, то все же известную зависимость от него. Мазок Коровина не оставляет предмет, чтобы полностью принадлежать плоскости картины. И это качество для понимания разницы между классическим французским импрессионизмом и его русским вариантом весьма важно. «Русский импрессионизм» по природе своей эклектичен и непоследователен. Это не его слабость и не его достоинство. Это — данность.
Мощная инъекция нового живописного видения коснулась других русских мастеров, конечно, в меньшей мере, чем Константина Коровина. Коровин писал ведь и сюжеты, отчасти близкие французским… Иное дело, например, Абрам Ефимович Архипов, живописец на первый взгляд традиционной передвижнической темы. Но импрессионистические его поиски придали старым сюжетам нежданную и острую поэтичность.
Живопись Архипова — особенный феномен в истории русского искусства. Ученик Перова и Поленова, он сумел гармонично синтезировать гражданский пафос и житейскую наблюдательность первого с пленэрными исканиями второго. И если поздние его вещи отчасти перекликаются с поверхностной маэстрией Коровина 1910-х годов и даже праздничными фантасмагориями Малявина («Гости», 1914, Москва, ГТГ), то произведения рубежа веков, и в первую очередь картины «Прачки» (1890-е, Санкт-Петербург, ГРМ; 1901, Москва, ГТГ), — пример почти изысканного «прорастания» импрессионистических приемов в драматический сюжет. Тепло-жемчужные пятна, очерченные жестко и скупо, ритмично прерываемые серебристыми полосками сияющих рефлексов, создают драгоценную живописную субстанцию, отдаленно перекликающуюся, скорее всего, с плотной и сдержанной манерой Кайботта. Печаль колорита и жесткая точность рисунка превращают бытовую сцену в эпическую, многозначную и вечную, куда менее артистичную, чем в работах Дега, но несомненно трагическую.
Абрам Архипов. Прачки. 1890-е
Эта удивительная картина Архипова — скорее исключение в