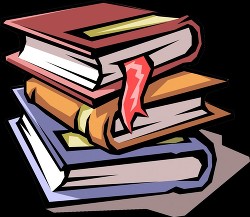спились. Все мы, конечно, любим маленько выпить, но не до такой
же степени… Ну, да ты ещё увидишь их.
Вот уж кто возмужал в армии, так это Боря. Теперь он большой, округлившийся, огрубевший.
Видимо, танковыми рычагами он наработал себе массивные лапы и тоже, кажется, подрос. У него
как-то круче и ниже опустились скулы, и лицо, кажется, более определилось. Теперь это
энергичный бодрячок-кругляшок. В армии он освоил жест, которого не имел раньше. При разговоре
Боря для убедительности отдельных слов по-боксерски бьёт кулаком одной руки в ладонь другой.
И это почему-то впечатляет.
Не вынеся из детства никаких связывающих воспоминаний, говорить они могут только о службе.
Слушая, с какой гордостью Боря отзывается о своём необыкновенном танке, Роман еле
удерживается, чтобы тоже не начать хвастаться чем-нибудь своим.
На вечеринке всё обычно: приветствия, хвалебные слова, тосты, шутки, прибаутки. Что ж,
можно и выпить – почему бы и нет? Боря так и вовсе делает это с превеликим удовольствием.
Скоро доходит и до песен. Роман ждёт, когда мать споёт свои любимые частушки-страдания,
которые выходят у неё задиристо и голосисто. А вот и они:
Ой ты, белая берёза,
Ветра нет, а ты шумишь…
Моё сердечко ретивое,
Боли нет, а ты болишь…
Матери подпевают тётка Валентина, жена дяди Тимофея, и другие женщины. Особенно хорошо
выходит у одной звонкоголосой соседки. И она чем-то напоминает Любу: эх, если бы Люба могла
сидеть здесь же, за столом, и петь с женщинами, знакомыми с детства… Как, наверное,
понравилась бы она матери! А мать, взволнованная пением, почему-то именно тут, в каком-то
перерыве, наклоняется к нему и спрашивает, помнит ли он Свету Овчинникову?
– Помню, – отвечает Роман, – сопливая такая.
– Ой, да ты чо!? – всплеснув руками, восклицает мать. – Она сопливой-то сроду не была…
Роман и не ожидал, что обидит этим мать. Маруся, уже принимающая Свету как свою,
обижается на своего глупого сына до того, что встаёт и, утирая глаза, уходит на кухню.
На этой же вечеринке удаётся услышать вводную часть в курс совхозных дел уже не в письмах,
а на словах и решительных жестах. Подвыпивший отец открыто разносит теперь эти дела в пух и
прах, заявляя, что «вот в колхозе-то всё было куда лучше и хозяйственней». Тимофей, брат
Маруси, слушает его с отквашенной губой.
– Да чем же тебе совхоз-то не глянется? – недоумевает он. – Просто жить надо умеючи… Если у
меня трактор под задом, так я чо же, не привезу себе, чо надо? Теперь не надо кажду копейку-то
считать. Государство, слава Богу, не скупитца. А ты сорвался с трактора в свою строй-банду,
ходишь по улице с молоточком, как бродяга, а чо толку-то…
– А мне с молоточком-то спокойней! – взвивается Огарыш. – Ну, возьму я горсть гвоздей в
карман, так я же тонну-то их не натаскаю: чо мне их, в уборную забивать? А на тракторе-то, это ты
точно говоришь, тащить надо. А не своруешь, так тебя теперь даже собственная баба не поймёт.
– Ладно, можешь и не воровать, но работа на тракторе так и так выгодней.
– Выгодней?! – кричит Михаил. – А кому выгодней? Кому она нужна, така работа?! Как сейчас на
тракторе в поле работать? Пары-то какие должны быть, а? Чёрные? Чё-ёр-ные. А у нас? Я как-то
ехал на мотоцикле да остановился ради интереса поглядеть. Стою и не соображу: то ли там кака-
то репа голландска растёт, то ли кукуруза американска, то ли хрен хороший такой, африканский.
Всё зеленым-зелено. Нет уж, прежде чем я на трактор сяду, пусть он сначала всё литовочкой
выкосит и вылижет! Это он всё позароостил.
– Да кто это – он-то?
– Да директор твой толстобрюхий, депутат этот, мать его перемать!
И всем понятно, что теперь это у них надолго.
Оба уволенных солдата сегодня в дембельской форме, переиначенной и разукрашенной так,
что на уставную она уже едва похожа – так ведь обычай такой, куда же денешься? Оба, конечно,
ещё и чуть поддатые, а один так уже и не чуть. Почему бы и в клубе не покрасоваться? В конце
концов, разве не для этого служили?
А в клубе Светлана, которая и в самом деле никогда сопливой не была. Теперь же – красавица!
Нет, не правильно, теперь она – писаная красавица! Чего стоит одна её толстая коса, пожалуй,
25
единственная на всю Пылёвку, а может быть, и на весь район! А кожа какого-то мягкого, прямо-таки
персикового цвета?! А тонкая фигура, в которой уже теперь угадывается стать её серьёзной
матери! А изгиб точёной талии, который бьёт по круто начинающемуся бедру? И это всё при том,
что Роман тут же ловит на себе её тайные, испуганно-призывные взгляды. Но с другой стороны…
«Распланировали они тут всё за меня», – ущемлённо думает он. К ней просто так не подойдёшь.
Подойти к ней – значит уже наполовину жениться. А надо ли это ему? Хороша Светлана, да только
не такая, как Люба, и потому ничем родным от неё не веет. Ни душевной, ни физической тяги к ней
он в себе не слышит. Впрочем, после встречи с Любой физическое смолкло в нём вовсе. Свечение
любимого образа с лёгкими, дурманящими завитками на шее, с чуть вздёрнутым носиком выжигает
и подавляет всё.
Первая неделя, прожитая Романом дома, удивляет и мать, и отца. Демобилизованный солдат
почему-то постоянно сидит дома. Вечерами ходит, правда, в клуб, но после кино сразу же, как из
увольнения, прибывает домой. А если и задерживается на танцах, которые в клубе почти каждый
день под собственный ВИА с двумя гитарами и барабаном, то не больше, чем на полчаса. И как
это понять? По разумению Огарыша, сыну сейчас по всем статьям полагается приходить с
петухами, а он уже в двенадцатом часу сидит на веранде и дует молоко с хлебом под
недоумённым материнским взглядом. Михаил от этого вроде бы даже как-то по-отцовски не
востребован. Сына сейчас полагается для порядку строго и периодически приструнять за то, что
тот шарится где-то ночами. Сын же должен изворачиваться, пряча глаза, но всё равно бегать. А тут
что выходит? Тут всё как-то не по-правильному правильно. А что за странная печаль в его глазах,
заметная уже и в первые минуты встречи, и на вечеринке в его честь? А почему вечеринки он не
хотел? Другой бы на его месте юлой ходил, всех друзей обежал и собрал к себе. А ему хоть бы что.
И Светку в упор не