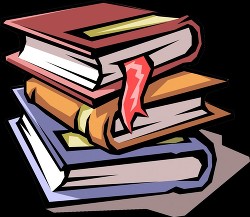токо чуть поболе, с запасом, – советует Михаил, – он же вымахал-то,
поди, ой-ё-ёй…
Не сосчитать, сколько раз успевают они беззлобно переругаться до возвращения своего
единственного сына. *2
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Странный дембель
Роман сидит на крашенном охрой горячем от солнца крыльце, держа на ладони ключ, и через
два года привычно нащупанный всё там же – над дверной колодой. Эта-то привычность и
заставляет его остановиться. На лбу солдата сохнут капельки пота, зелёная фуражка, отпотевшая
изнутри, лежит рядом. Вокруг всё своё, родное. На крыше сарая блестят клёпаные алюминиевые
санки – наверное, он-то и забросил их туда ещё в детстве после последнего катания с горы, только
тогда их деревянные планки не были такими облупившимися и серыми. Там же валяется ржавый
конёк и полуистлевший валенок… Но не хочется сейчас полностью отдаваться этому душевному
пощипыванию: не время рассыпаться по этим милым, конкретным мелочам… Всё это потом,
постепенно – завтра, послезавтра… Спешить уже некуда. Теперь он тут надолго, возможно, на всю
жизнь. Сейчас хватает и одного цельного чувства – хорошо просто сидеть и дышать родным.
Роман видит, что первым на большие шаги к дому спешит отец. Он того и ожидал, что весть о
его приезде сама найдёт родителей: и в автобусе ехал с односельчанами, и здесь сидит на виду
всей улицы. А шаги-то у отца, кажется, уже чуть-чуть не те: ломкие, вязкие. Ноги, что ли, как-то не
до конца распрямляются? И руками он теперь как-то короче размахивает. Наверное, если б не
торопился, то не бросалось бы это в глаза.
Роман по привычке, как при появлении старшего, надевает фуражку. Отец и сын сходятся у
калитки. Встряхивают друг друга за руку, встречаются глазами, но не обнимаются и тем более не
целуются: такие нежности между мужчинами в семье не приняты.
– Ну, здорово, батя, – говорит Роман.
– Дорово, дорово, – отвечает Михаил, блестя глазами, – как доехал-то, ничо? Нормально?
– Нормально, – отвечает Роман, улыбаясь про себя: да какая разница как доехал, если дома
два года не был? Хотя, конечно, и дорога была непростой, но это уж другая песня.
Входят в дом. Михаил, накинув кепку на «спичку» (слово, которое Роману вспоминается вдруг),
22
или на гвоздь, вбитый в стену, суетливо выскакивает с чайником на веранду. Роман даже замирает:
отец случайно задевает ковшом о край бочки, и этот звук раскатывается в душе – надо ж, как живёт
здесь всё своё: и бочка та же, и ковшик, и чайник, и звуки. И вкус воды из этой бочки, конечно, тот
же, который нельзя было забыть. Роман медленно обходит комнаты, рассматривая столы, шкаф,
стулья, комод, окна, кивая головой, здороваясь и словно соглашаясь со всем и согласуя себя со
всем своим. На комоде много разных мелких сувенирчиков, к которым умильно и трогательно
тяготеет мама. Прямо целая выставка. И все эти игрушки знакомы. Среди простых сельских вещей
они всегда казались чем-то чудесным, пришедшим из какого-то большого, более цветного мира.
Особенно контрастирует со всем деревенским изящная фарфоровая статуэтка девочки с синими
глазами. Романа ещё в детстве подмывало спросить у мамы, откуда она? Кто её подарил? Но не
спрашивал, откладывал, не понимая, чего больше ему хочется: знать о ней или не знать, чтобы
оставалась тайна. Однажды, когда был ещё совсем маленьким, спросил лишь об одном: «Мама, а
как эту девочку зовут?» Маруся взяла в руки статуэтку, повертела её так и эдак. «Не знаю, сына, –
задумчиво ответила она и тут же оживилась, будто впервые увидев. – Ой, а глаза-то, глаза-то у неё
какие синющие! Прямо страсть! Вот если бы у меня была такая доча, то я называла бы её
Голубикой». «Голубикой, – засмеялся Ромка, но с какой-то стыдливой неловкостью – очень уж
удивило и понравилось ему это имя, – нет, мама, так девочек не зовут». «Да, знамо дело, не
зовут… А может, и зовут, кто его знат…», – ответила Маруся, посмотрела на сына, потом куда-то в
угол комнаты, словно вдаль, как в какую-то мечту и, вздохнув, поставила статуэтку на комод.
А вот в зеркале шкафа он в своей военной форме выглядит непривычно, как будто не
соответствует своему дому. Сняв китель, Роман выходит на яркую, освещенную веранду к отцу,
который с пристрастием изучает белое нутро холодильника.
– А лысина-то у тебя увеличилась, – грустно замечает Роман.
– Да уж, так получатца, – даже как-то польщёно смеясь, откликается отец, – думал, пойду в
седину, а пошёл в лысину. Седых-то ни волоска. Сразу живыми осыпаются, и всё.
Он принимается рассказывать про их житьё-бытьё, но от радостной взбудораженности как-то
всё не о том. Интересно ли теперь это сыну? Теперь Ромка (да какой уж он теперь Ромка –
настоящий Роман) даже как-то непривычен. А вымахал-то как: подтянутый, тонкий, кисти рук – как
клещи, а лапы, чего доброго, сорок последнего размера. Про тех, кто приходит из армии, говорят –
возмужал. Возмужал и сын, но только его возмужание продвинулось как-то не «по линии»
Михаила. Огарыш быстрый и шебутной, а в Романе обнаруживается квадратность плеч, солидная
неспешность, с продуманностью каждого жеста, грудной голос, теперь уже полностью
сгустившийся до баса. Откуда это в нём? Видать, пробивает что-то по естественной родове,
которую никто из них не знает. Странно, что Огарыш, вырастивший его, вдруг чувствует перед
сыном неловкость и лёгкую робость. Ему вдруг кажется, что Ромка-Роман такой, каким он
вернулся, ни за что и ни в чём не послушается его. Всё – теперь он уже полностью сам по себе.
Чайник ещё не успевает и зашуметь, как массивно, но торопливо, раскачиваясь из стороны в
сторону, приходит Маруся. Она была в магазине, когда ей сообщили новость, а потом ещё и по
дороге два раза поздравили с возвращением сына. Первое, что она, запыхавшаяся, видит в зале
перед круглым столом, покрытым красной бархатной скатертью, – это сержантский китель с
зелёными погонами, аккуратно висящий на спинке стула. И у неё уже всё плывёт перед глазами.
Роман, слыша её шаги по скрипучим половицам веранды, выходит из кухни и попадает в объятия.
Пригнув сына к себе, Маруся зацеловывает его до того, что Роману приходится со смехом и
растроганностью вытирать ладонями лицо. Есть у Маруси такая особенность, как слёзная
чувствительность. Встречая родных (да и провожая тоже) она всегда плачет, не стыдясь и не
стесняясь никого, потому что для неё естественно. Кто-то может кричать, хлопать по плечам,
размахивать руками, у кого-то при этом наворачиваются слёзы на глаза, а Маруся обильно и
растроганно плачет.
А вот у неё-то при