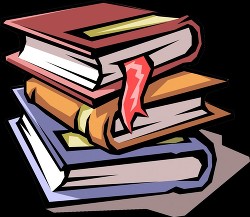существом, вскрикивает
и сам слышит этот крик. И вдруг! ВДРУГ! Он чувствует ВСЁ СВОЁ ТЕЛО ОДНОВРЕМЕННО И
СВЯЗАННО, КАК ОДНО! И это не сон! Это не сон! Это его крик! Это его тело! Но тут же он
оказывается ослеплённым белым светом очередной молнии. Его глаз открыт, и этот глаз видит! И
новый, очередной, сильнейший разряд грома! Ох, что творится в этом мире! Вот он, мир – такой
долгожданный, и такой знакомый, и уже почти забытый. «Я всё же вернулся, вернулся сюда!» Это
сразу очевидно, в этом нельзя сомневаться ничуть. Это не спутаешь ни с какой иллюзией или
сном. Он вернулся ночью, в грозу и в ливень.
548
И новая вспышка! Теперь это – включенная электрическая голая лампочка под потолком. И в её
свете чужая, очень полная женщина с выставленной вперёд челюстью, в ночной рубашке, стоящая
перед кроватью. Она яростно крестится, глядя на новое явление сына. Её глаза безумно
вытаращены, а рот с больными жёлтыми зубами широко открыт. Она смотрит на него, едва
оторвавшего голову от подушки. Для того, чтобы лишь на несколько сантиметров приподнять её
атрофированными мышцами, Роман использует все свои оставшиеся физические силы и все свои
силы духовные. С его выпирающих рёбер свисают раздавленные яйца со слизью, желтком и
скорлупой. Родился!
Безумными глазами Алка смотрит на бледно-розовую культю своего сына, высунувшуюся из-под
одеяла, на его единственный голубой глаз (который она не видела ещё ни разу в жизни), на шрам,
идущий через лоб, пустую глазницу, щёку и теряющийся в длинной светлой бороде.
Роман с трудом обводит взглядом всю комнату. Как дорога сейчас каждая деталь этого мира:
старый круглый стол, покрытый цветистой скатертью, часы с кукушкой на стене, тикающие
отчётливо, а не словно сквозь вату, как было мгновение назад. В чёрном окне видно
пульсирование ночных молний, капельки воды с той стороны стекла. А ведь дождь ещё и слышно.
Оказывается, делать всё одновременно нелегко. Трудно сразу видеть, чувствовать и слышать.
Видя дождь, он забывает слушать его. Как это удивительно: слышимое видеть, а видимое
слышать! Он разучился это делать. А ещё он чувствует холод. Боже, да он по-настоящему мёрзнет!
Его уже просто колотит от холода, но как это сладко – мёрзнуть в этом замечательном мире! Какое
это блаженство!
Жизнь, оказывается, бьёт тут всё с той же интенсивностью, которая теперь кажется просто
чудовищным фонтаном. Обыкновенный кусок хлеба после длительного голодания кажется не
хлебом, а неким сверххлебом. В обыденности жизнь – не более, чем просто жизнь. Никто не
ощущает её как трижды жизнь или более того. Но сейчас она именно такова. Она такая
невероятная, такая потрясающая. Похоже, она специально красуется сейчас перед ним.
– Гроза, – как-то даже растерянно, с грудным хрипом произносит Роман своё первое слово
здесь, которое, пожалуй, понимает только он сам, потому что по звуку это лишь какой-то
нечленораздельный хрип.
И Алку скашивает это непонятное и, видимо, страшное слово, прозвучавшее для неё сильнее
грома. Она валится на колени, потом, словно не удержавшись, заваливается на спину, стукнувшись
головой о ящик комода, и её колотит припадок. Роман слышал уже немало её припадков, ну,
значит, пройдёт сейчас и этот. Он снова смотрит на сверкнувшую молнию в окне. Какая,
оказывается, у молний необыкновенно проникающая вспышка. Когда вспыхивает молния, то
кажется, будто она частично вспыхивает прямо в комнате. Слышится гудок стремительно
приближающегося поезда. Так, значит, отсюда этот звук куда сильнее, чем оттуда! Этот гудок,
приближаясь уже окончательно, просто в клочья рвёт мёртвую плёнку, в которую он был так долго
и так надёжно обёрнут. И ливень такой полный и сочный, как хруст свежего зелёного яблока. И всё!
Сил больше нет. Голова сама падает на жёсткую слежавшуюся подушку (он и не знал, что она так
жестка). Мир исчезает. Вот он, подарок, преподнесённый жизнью перед окончательным уходом.
Прощай же, сочный, радостный мир…
Но это искреннее прощание оказывается ложным.
Потом, в течение нескольких дней всё так же долго находясь в полузабвении, но уже без всяких
снов, Роман страшно боится своего ухода куда-нибудь дальше сновидений. Мир мёртвых его уже
пугает – а вдруг он не отпустит? Несколько дней его тело болит и стонет от своего первого
подъёма. Боль во всех мышцах, перенапряжённых в тот момент. Но что это за боль! Душа просто
поёт от боли, она поёт самой болью. Оказывается, сама боль может быть песней! Но страха очень
много. Как знать, что отказало в нём при взрыве, что происходило потом на протяжении всех этих
лет? Не повторится ли это? Поднимется ли он ещё раз?
И лишь у матери никаких страхов уже нет. В эти дни она лихорадочно чистит и моет всё в доме,
белит стены (ах, как пахнет извёсткой и свежестью!) меняет шторки на всех окнах, простирывает
вязаные коврики-половики. Жизнь вдруг наполняется для неё таким смыслом, которого она не
знала никогда. Никогда она не жила в такой жизни, в какой живёт сейчас.
А сердце, оказывается, так легко и открыто. Всякий раз сердце Романа взрывается лишь от
одной мысли, что он всё-таки живёт, и этот живой комочек в груди приходится успокаивать
специально. Осознавая себя в реальном, уже вроде как открытом времени, Роман вдруг
обнаруживает, что ему не надо часов. Часы идут где-то внутри его. Время с точностью до минут он
может назвать в любое мгновенье дня и ночи. Этот отсчёт не сбивает даже сон. Да если бы только
одно это… Теперь ему легко даётся многое.
Телевизора в доме нет, но хватает и радио. Страна гудит такими переменами, что, кажется, до
рокового взрыва на пыльной дороге она была совсем другой. В той, старой, стране были сплошные
успехи, а теперь, напротив, говорят, что в прошлом всё было плохо. А ведь и вправду плохо.
Просто, видя плохое, воспринимали его хорошим (прав был в этом Иван Степанович). Люди тогда
словно не могли переступить через самих себя. И он немногим отличался от других. Однако вся ли
549
правда говорится сейчас? О прошлом, возможно, вся. Но говорится ли она о настоящем? Если не
говорится, значит, начнётся новый, но такой же замкнутый круг.
Конечно, вот теперь он мог бы жить по-другому. Нашлись всё-таки люди, рискнувшие всё
перевернуть. У них потому всё и вышло, что они ковырнули под корень. А он петушился и
кукарекал на какие-то «отдельные недостатки». И, выходит, как был за бортом, так за бортом и
остался. Всегда хотел чего-то лучшего,