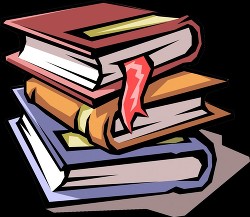в который из ноги стекало что-то мутно-белое. Отец, совершенно
измождённый болью, смотрел на меня и, кажется, не узнавал. Было впечатление, что он просто
сильно пьян.
Я был в шоке! Какая же я сволочь, что не нашёл возможности приехать раньше! Да только
откуда ж было мне знать, что его не станут лечить в больнице, как безнадёжного, что по всему селу
нельзя найти машину, чтобы отвезти отца хотя бы в райцентр – в Могойтуй, потому что для
частников в совхозе нет бензина? Из местной больницы, минимально выполняя свой врачебный
долг, приходили, осматривали больного, беспомощно жаловались, что у них тоже нет машины, и
уходили. А как понять маму, которая лишь переселила отца в тепляк, да написала мне письмо? Её
просто невозможно понять. Она с боольшей готовность чем все смотрела на отца, как на
безнадёжного. Смирившись с обстоятельствами, которые казались ей непреодолимыми, она уже,
что называется, несла свой крест…
Мама вообще была у нас странной. В детстве я всегда поражался тому спокойствию, с которым
она рубила головы курам. Она никогда не просила об этом отца. Сама шла во двор, ловила
подходящую курицу, голову на чурку, тюк топором и готово. Меня, если я видел это дело,
совершаемое легко и словно мимоходом, просто сковывало ужасом, но мама, кажется, всегда
была спокойной. Или, может быть, просто делала вид? Не знаю. Во всяком случае куриное мясо я
в детстве не ел. Другая же, как мне казалось, противоположная особенность мамы состояла в том,
что она была певуньей. Ах, как замечательно и голосисто она пела! Голос её был силы
необыкновенной. Когда она была ещё совсем маленькой, к нам в село (в село Ундино-Поселье)
приезжали московские артисты. А так как гостиницы у нас не было, то артистов расселяли в
свободные дома. Просторный дом моей бабушки, несмотря на семерых её детей, тоже считался
подходящим для этого. И вот однажды, готовясь к концерту в клубе, артисты стали распеваться
прямо в доме. Мама послушала, послушала их, а потом вышла на крыльцо и передразнила перед
любопытной ребятнёй, собравшейся в ограде. Она повторила практически всё. Артисты же,
услышав её, удивлённо повыглядывали из дверей. Попросили маму пропеть что-нибудь ещё.
Голосом её они были поражены и потом, уезжая, просили бабушку, чтобы та позволила взять это
дарование с собой. Они обещали устроить её в музыкальное училище. Но бабушка не
согласилась, и, вероятно, страна не получила от этого еще одну Дуню Бурлакову. Маме же на её
творческую судьбу (если тут уместно так сказать) досталось лишь пение в художественной
самодеятельности. Там она пела народные песни, а так же песни из репертуара Лидии
574
Руслановой. Мне же почему-то запомнилось, как трогательно пела она песню о Ленине со
словами: «Ленин с нами и люди спокойны, если рядом Владимир Ильич…» Сам видел, как глаза
слушателей в зале наполнялись от этой песни слёзами умиления.
К слову сказать, у моего отца в детстве было прозвище Ленин. Ну, во-первых, потому что его
маму звали Леной. В селе многих тогда звали по матерям. «Это чей парнишка-то бегает?» «Так
Катин», или «Машин», или «Ленин». А во-вторых, потому что родился мой отец, как и великий
вождь, 22 апреля.
Так вот теперь этот заживо сгнивающий Ленин находился совсем рядом, в тепляке, а мама
каким-то образом, оставалась невозмутимой. Или опять же мне это просто казалось? Наверное,
так. (До сих пор хочется верить, что именно так…)
Кое-как устроив отца на заднее сиденье Москвича, выехали в Читу. Но как долго тащились мы
туда! Сейчас, когда у меня есть хорошая машина, я не знаю сколько нужно сделать подъёмов и
спусков по сопкам, чтобы приехать из Боржигантая в Читу. Моя «японка» их просто не замечает.
Водитель почти оранжевого Москвича это число знал точно. Как было ему этого не знать, если его
машина еле-еле вползала на каждый?
Дорога казалась мне вечной. Мы ехали с открытой форточкой, чтобы салон хоть немного
проветривался. Лицо водителя было постоянно повёрнуто к свежему воздуху – за такую долгую
дорогу можно и окриветь. На отца я боялся оглядываться. А если оглядывался, то видел его
затуманенный и какой-то отгораживающий взгляд, потому что боль на тряской дороге была
сильнее. Кажется, отец просто не видел ничего вокруг. Всю дорогу он молчал. Стоны были ему не
нужны – отец сам был одним сплошным бессильным стоном.
До областной клинической больницы доскреблись уже ночью. Какое это унижение быть бедным
– бедным настолько, чтобы привезти отца в таком состоянии, на таком советско-московском
драндулете… А ведь я со своей коммерцией лишь о том и мечтал, чтобы жить получше и всех
родных вытянуть из этого унизительного существования. Только когда это ещё будет? Больные
родители ждать не могут.
В приёмной, я встретил высокого, чем-то рассерженного врача, сообщил, что привезли
больного.
– Откуда? – спросил он.
– Из Могойтуйского района.
– Мы его не примем, – ответил врач, – везите в Могойтуй.
Я почувствовал, как меня пробивает волна бешенства и жара. До Могойтуя больше ста
километров в обратном направлении. Мне казалось я сейчас просто разорву этого равнодушного
эскулапа. Однако эмоции пришлось сдержать. Нет уж, дорогой, никуда мы больше не поедем…
– Хорошо, – сказал я, как можно спокойней, – мы увезём его туда, куда вы скажите. Но ведь вы
– врач, а там – больной. Окажите ему первую помощь. Хотя бы взгляните на него.
Врачу этот довод показался убедительным. Он вышел, открыл дверцу «Москвича», посмотрел в
лицо моего отца, откинул тряпку с ноги и уже не раздумывая, распорядился:
– Заносите! Быстро!
После осмотра врач вышел в приёмную.
– Ногу надо срочно ампутировать.
Я лишь кивнул головой, вошёл к отцу.
– Всё, батя, – сказал я ему, не зная, дойдёт ли до него смысл моих слов, – надо отрезать.
– Я не дам, – словно очнувшись, вдруг хрипло, но совершенно осмысленно ответил отец.
И я понял его. Как в деревне без ноги? Как хозяйство, как мотоцикл, как дрова и сено?
Сельскому жителю без ноги никак нельзя. Но, кажется, отец просто не понимал, что ступни у него
уже нет – она ещё дома вытекла в таз.
– Режьте, – сказал я, повернувшись к врачу.
– Вы ему кто? – как и полагается, осведомился он.
– Сын, – ответил я, доставая паспорт.
Оказавшись без одной ноги и поправившись, отец через какое-то время приспособился к
своему новому положению: ездил на «Урале», а уж колоть дрова на протезе, так это для него и
вовсе оказалось простым делом. Когда я к нему