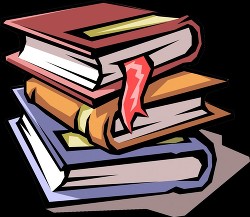так же изредка приезжал, занятый судорожным
коммерческим выкарабкиванием, отец даже хвастался тем, как он ко всему приловчился. Одна вот
только печаль – за оградой отец старался показываться как можно реже. Ему было стыдно, что
теперь он без ноги. Казалось бы, что за стыд? А вот и стыд. Просто отец был из породы тех
активных, жизнерадостных мужиков, что по дороге ни одну женщину не обделят красноречивым
мужским взглядом. (Возможно, как раз в отместку за это мама с такой готовностью и списала его в
разряд безнадёжных…) И вот теперь отцу, находящемуся ещё в расцвете сил, стало казаться, что
как мужчины его уже нет.
А потом настала очередь второй ноги. Зимой я снова получил письмо от мамы, что отцу
становится всё хуже. В Боржигантай мы приехали вместе с сестрой и её мужем Володей.
Отец, бледный, лежал на диване.
575
– Ну что, как дела? – спросил я его.
– Да вот теперь уж точно помирать надо…
Начали сборы. Отца едва загрузили в машину, собственных сил у него не было никаких. Это
казалось таким непривычным, что даже возникало нелепое подозрение: капризничает что-то, а вот,
мол, делайте со мной, что хотите, а я и помогать не буду… Во всё время сборов он молчал и лишь
когда машина выезжала за село отец, оглянувшись в заднее окошечко, вдруг грустно произнёс:
– Ну всё, прощай Боржигантай…
Произнёс он это тихо, будто сам для себя, но у всех нас – комок в горле, потому что это звучало,
как прощай жизнь… Мне захотелось его поправить: «Ну почему же, «прощай»? Но ни я, ни кто
другой так его почему-то и не поправил…
Отец молчал и в пути. Я подумал: может быть, подрёмывает? Нет, просто смотрел в окно на
мелькающие верхушки голых деревьев и молчал. Мама его состояние описала так: «Почернел
палец на второй ноге». Нам стало понятно, что придётся отнимать и эту ногу. Но, как наделись мы
по дороге, резать придётся или до стопы или уж до колена.
В больнице врач попросил меня снять с ноги отца повязку. Я стащил носок, надетый сверху.
Дома на ногу никак не могли натянуть унт и потому засунули ногу в самый большой валенок,
который только нашёлся. Носок слетел вместе с повязкой, и я увидел то, что видеть, наверное,
полагается лишь врачам, специально для этого подготовленным: там было одно мясо и нога
чёрная до колена. Оказывается, дома отец не показывал её даже врачам, а когда мама настаивала
на этом, то он кричал, обвиняя её, что она просто хочет поскорее избавиться от него. Вот так и
существовала версия про один почерневший палец.
Врач сказал, что ногу нужно срочно отнимать по бедро. Отец лишь согласно покачал головой, и
нам стал понятен и его обречённый вид по дороге, и его прощание с селом.
Несколько дней отца готовили к операции. Мы по очереди с сестрой навещали его. В утро
назначенного дня он чувствовал себя неплохо. До этого у него была высокая температура, но в
этот день она была сбита. Мы говорили с отцом почти два часа. Было решено, что после операции
он останется в городе, мы снимем для них с мамой отдельную квартиру.
– Ну, значит, всё, – сказал он, – Боржигантая я уже не увижу.
Отец сидел на кровати. Мы с сестрой стали собираться, чтобы уйти. Подхватили сумки и
поднялись.
– Что-то мне сегодня поразговаривать охота, – сказал вдруг отец, пытаясь задержать нас ещё.
И тогда я пообещал, что мы обязательно поговорим с ним после операции. Он согласился,
грустно кивнув головой. Позже, пытаясь понять его состояние, я догадался, что соглашаясь в тот
момент, он будто пасовал перед нашей занятостью – у нас много дел, а он лежит тут, ничего не
делает.
Выходя из палаты, я как обычно оглянулся на отца. Он сидел на кровати, опустив вниз свою
единственную ногу, которой завтра уже не станет, в очках с толстыми линзами. У меня возникло
желание остаться и всё-таки поговорить ещё о том, о чём он как будто не договорил. Только о чём?
Кажется, сегодня обсудили уже всё.
И это был последний мой взгляд на живого отца. После операции он умер.
…Однажды, два годя спустя, я увидел, как в торговый зал моей, наконец-то оперившейся
фирмы вошёл Боржигантайский главврач, назначивший когда-то отцу глюкозу. Он ходил,
приценивался, выбирая продукты для оптового закупа. Видимо, теперь и он подался в коммерцию
– врачам платили мало. Подойти к этому односельчанину я не смог. Потому что не знал что ему
сказать. От врачебного дела он отошёл: понял, что дело это не его. Почему вот только раньше-то
не понимал? Пожалуй, лишь потому что раньше врачам платили неплохо.
Прошли годы, врач уехал в Москву к детям и, по слухам, неплохо устроился там.
Однако, видимо, для того, чтобы чаша моей горечи по отцу была полной, позже я узнал, что
отец наш ушёл в свои пятьдесят девять лет не только по вине Боржигантайского врача. После
отнятия второй ноги ему назначили переливание крови. Моя сестра, навестившая отца на другой
день после операции, узнав про это назначение, сказала, что нам, родственникам, наверное,
следовало бы, в таком случае сдать свою кровь (тогда это даже полагалось, вроде как для
компенсации).
– Мы готовы к этому, – сказала она, – потому что у отца довольно редкая группа крови.
– Да какая она редкая, – отмахнулся врач и с удовольствием доложил, – мы уже перелили…
– Ну вообще-то, насколько я знаю, четвёртая группа крови считается редкой, – заметила сестра.
И тут она увидела, как врач принялся дрожащими пальцами листать историю болезни отца,
чтобы отыскать в ней нужную графу. Она видела, как лицо его сделалось бледным и виноватым,
если тут можно выразиться так. И ей стало всё понятно: отцу влили не то.
Сестра рассказала мне об этом лишь спустя десять лет…
«Это был замечательный строй», – говорят сейчас бывшие деятели социализма и даже простые
люди. Что ж, по некоторым пунктам я с ними не спорю, а вот по «пункту» отца не соглашусь
никогда.
576
*15
Наша мама пыталась покончить с собой. Последние, самые немощные годы жизни, она провела
в семье своей дочери, моей сестры Татьяны. Три инсульта не повредили её памяти. Она помнила
стихи, выученные в детстве, не забыла имён и прозвищ односельчан. Но ей было уже всё не
интересно. Видя угасание мамы, мы с сестрой никак не могли придумать способа как пробудить её
интерес к жизни. Мама