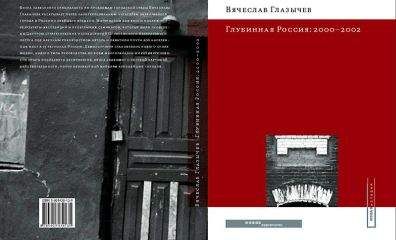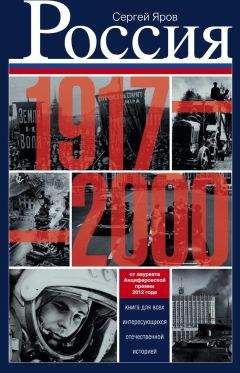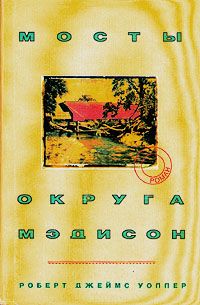Если перевести все это и многое другое на язык пространственных представлений, то придется констатировать: несколько баламутная жизнь пограничья образует собой протяженный неопознанный объект. Познавать его природу в неспешном академическом режиме невозможно. Во-первых, для этого недостает ни сил, ни средств. А во-вторых, ситуация видоизменяется быстрее, чем на изменения способна реагировать академическая наука. Остается включённое исследование, т. е. изучение через действие, точнее, взаимодействие с региональными и местными властями, с заинтересованными профессионалами, с вменяемой общественностью.
Интенсивная жизнь в «углах»
ТЕКСТ ОТСУТСТВУЕТ
ТЕКСТ ОТСУТСТВУЕТ
Оренбуржье и смена оптики
ТЕКСТ ОТСУТСТВУЕТ
Мордовия: школа сотрудничества
ТЕКСТ ОТСУТСТВУЕТ
Симбирская губерния: 10 лет назад
ТЕКСТ ОТСУТСТВУЕТ
Татарстан: энергетика неожиданности
ТЕКСТ ОТСУТСТВУЕТ
ТЕКСТ ОТСУТСТВУЕТ
ТЕКСТ ОТСУТСТВУЕТ
7. О пользе чтения старых книг
Недавно изданная подборка очерков Афанасия Фета[64], опубликованных в 1860—1870-е годы в катковском журнале «Русский вестник», настолько резко выделяется на фоне российской словесности, что мне кажется безмерно важным шаг за шагом выстроить к ним комментарий.
У Фета был не менее любопытный предшественник — Николай Львов, архитектор-дилетант, ставший первоклассным профессионалом, и закоренелый горожанин, превратившийся затем во вполне профессионального помещика. Грех не привести хотя бы один текст из его переписки с клиентами, для которых Львов возвел множество усадеб в трех губерниях:
«Милостивый Государь Петр Васильевич…Приложа, как говорят, руки к делу, место сие выйдет, мало есть ли сказать, лучшее из Подмосковных. Натура в нем все своё дело сделала, но оставила ещё и для художеств урок изрядный. От начала хорошего, от первого расположения зависеть будет успех оного…
Правда, что возвышение под усадьбу назначенное имеет прекрасные виды, с обеих сторон красивый лес, но кряж песчаный и жадный: воды ни капли, и все то, что на возвышении посажено не будет, будеть рость медленно и хило, ежели не взять к отвращению неудобств нужных мер.
В новом фруктовом саду, по песчаной горе расположенном, тоже ни капли воды, как и на скотном дворе; на поливку и на пойло должно по крайней мере определить три пары волов в лето, а без хозяина легко выйти может, вместо пользы, одно из двух необходимое зло: или коровы будут без пойла, или волы без кожи.
Там, где вы назначили мне и конюшенному двору положить основание, т. е. по правую руку от проспективной дороги к роще, по теперешнему положению место не весьма выгодно, потому что весьма далеко от водопоя. Хорошего же колодца иметь на горе никак нельзя, и выкопанный в 12 сажен колодец держит в себе воды небольшое количество, которое скопляется из земли, а действительной ключевой жилы нет, да и быть не может, потому что горизонт обеих побочных речек, да и самой Москвы-реки, лежит весьма низко… Освидетельствовал обе побочные речки и берега их, кажется мне, что есть возможность оживотворить живыми водами прекрасную, но по сию пору мертвую и безводную ситуацию вашей усадьбы, в саду и в скотном дворе вашем будут везде фонтаны, возле дома каскад великолепный, конюшеный двор при воде же текучей построен будет там, где вы его назначили. Словом, прекрасное положение места будет право несравненное, все оживет и все будет в движении; по сю пору я признаюсь, что виды романтические составляют без воды мертвую красоту…
Все это поверил я на месте, нанес на план и теперь делаю расположение всей усадьбы вообще, которое по возвращении моем представляю на ваше одобрение…».
Уже из этого текста понятно, что Львов с точно такой же тщательностью проектировал курятники, скотные дворы, погреба и ледники. В отличие от всех иных российских зодчих, озабоченных одной только формой хозяйственных построек, он был занят существом дела и был в этом отчаянно одинок.
Фет видел иные из построек Львова, но его текстов, разумеется, не читал — те были изданы лишь в середине ХХ века, да и то в отрывках. Не мог он читать и обширный труд А.Т. Болотова — тот скончался в 1833 году, когда Афанасию Фету было тринадцать лет, а четырехтомник «Жизнь и приключения Андрея Болотова» был опубликован лишь в 1873 году.
Сочинения Львова, Болотова и Фета исключительны в русской литературе, поскольку эти авторы нисколько не были скованы особым доктринальным невежеством, жертвами которого были едва ли не все остальные[65]. Крестьянина полагалось воспевать, помещика полагалось считать если не извергом, то бездельником, хозяйственная жизнь практически не затрагивалась, а если даже и затрагивалась, то в ключе чисто декоративном. Впрочем, и здесь лучше дать слово Афанасию Фету, взбешенному современным ему «демократическим» направлением в отечественной литературе:
«Например, в отношениях между нанимаемыми и нанимающими рекомендуется ли первым точность в исполнении договора и уважение к хозяевам, а последним снисходительность и человеколюбие к первым, — кажется, чего бы яснее и проще? Но литератор (какой бы он был литератор, если б он понимал такие простые вещи?) разом становится в ораторскую позу и восклицает: «А ещё стремятся к уравнению сословных прав! Отчего же не рекомендовать того же тем и другим?» Литератор обязан видеть, что дело идёт не о сословиях, а о положениях, из которых вытекают отношения лиц… Дорожают ли квартиры, литератор тотчас хватает крупного домовладельца и целые годы хлопочёт только о том, под каким бы соусом почернее подать его читателям[66]. О том же, что по законам естественным ни одной вещи нельзя продавать по произвольной цене и что на повышение и понижение цен влияют тысячи причин, литератор и знать не хочет: он литератор».
Если и в наши дни повседневно сталкиваемся с тем, что в телевизионных очерках присутствует либо плаксивый оттенок (все в разрухе, все пропало и пр.), либо оттенок изумленного умиления по поводу какого-либо чудаковатого индивида, нечто делающего, вопреки всем обстоятельствам, то это давняя традиция. Пишущим не интересно все то, что происходит на самом деле в глубинной России, да они особенно не скрывают этого, предпочитая дедуцировать на основе чистого умозрения. Отнюдь не случайно совпадение тональности в «левой» публицистике и в публицистике якобы нейтральной: и там, и тут господствует маргинализованная озлобленность на ход вещей — трудный, конечно, но неизбежный; и там и тут царит люмпенская обида на весь свет и более ничего.
Задавшись простым вопросом, почему молчат земледельцы, Фет достаточно точен в ответе:
«Дело в том, что большинство крупных землевладельцев служит и потому поставлено в невозможность не только писать о собственном деле, но и разуметь его основательно. А если нельзя утверждать, что все крупные земледельцы непременно на службе, то от этого не легче: они все-таки не живут по деревням и волей-неволей плохие судьи в собственном деле… у нас не диво землевладелец первой величины, который в течение одного часа, на одном конце кабинетного стола приходит в негодование над деревенскими счетами, отражающими в себе неизбежные последствия экономических реформ, и углубляется затем, на другом конце того же стола, в выбор и сортировку журнальных статей с социалистическим оттенком…
О мелких землевладельцах в деле публичного обсуждения земледельческих вопросов нечего много распространяться. К несчастию, не многим из них, остающихся в первобытной среде, удалось воспользоваться необходимой степенью общего образования, и, кроме того, самая деятельность их, по тесноте своего круга, исключает все нововведения, сопряженные с материяльными пожертвованиями. Остается сравнительно самый многочисленный круг средних землевладельцев…».
Но здесь Фету приходилось лишь уповать: круг средних землевладельцев хранил молчание. Фет писал в то время, когда великий исход помещиков в уездные города уже разворачивался во весь свой размах. Продавая имения или оставляя их, дважды перезаложенные, в руках вороватых и неумелых управляющих, помещики устремились заводить театры в городках вроде Старицы. В дворянской собственности в Поволжье к концу столетия всё ещё находилось почти 60 % частновладельческой земли, но уже на треть меньше, чем к 1859 году, тогда как в среднем 61,1 % земель было в безнадежном залоге учреждениям ипотечного кредита, в Казанской губернии эта пропорция доходила до 90 %. Находилось мало охотников писать на хозяйственные темы.