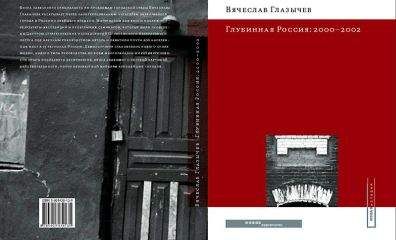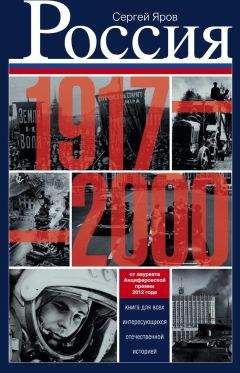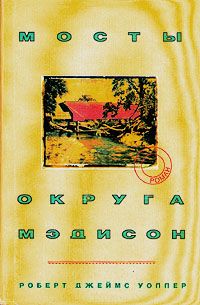Фет совершенно уникален в том, что свои 200 десятин чернозема в Мценском уезде Орловской губернии он приобрел в 1860 году, исходно ориентируясь на то, что ему предстояло осваивать азы хозяйствования в системе наемного труда. В его очерках содержится уникальное, не имеющее аналогов аналитическое описание той первой фундаментальной перестройки российской действительности, что разворачивалась по следам реформы 1861 года. Разумеется, что сейчас, пытаясь осмыслить десять лет, прошедшие после второй перестройки, также направленной на формирование относительно свободных экономических отношений в стране, обращение к очеркам Афанасия Фета более чем уместно. Я далек, конечно, от протягивания прямых параллелей, от поиска простых соответствий, однако психологическое сходство двух волн высвобождения сознания миллионов людей и от формальных догм, и от неписаных правил поведения всё же не является фантомом. Не является, в частности, и потому, что коллизии первой перестройки не были серьёзно исследованы в конце века девятнадцатого в связи с тем, что сознание большинства мыслящих индивидов было заковано или в фантазерство народников, или в фантазерство социалистов-эсеров; на протяжении же века двадцатого — по причинам столь очевидным, что называть их нет надобности.
Тургенев, для которого единственной достойной функцией поместья, наряду с пересылкой денег от управляющего, была охота, в 1861 году писал Анненкову о Фете: «Теперь он возвратился восвояси, т. е. в тот маленький клочок земли, которую он купил среди голой степи, где вместо природы одно пространство (чуждый выбор для певца природы!), но где хлеб родится хорошо и где у него довольно уютный дом, над которым он возится как исступленный. Он вообще стал рьяным хозяином. Музу прогнал взашею — а впрочем такой же любезный и забавный, как всегда».
Впрочем, впоследствии Тургенев часто обращался к Фету за советом по практическим делам, что не мешало ему, владельцу стремительно погружавшегося в упадок Спасского, сетовать на странную «измену Музе».
Уже в первых своих предприятиях по обустройству нового места Фет столкнулся с немалыми затруднениями, главным из которых было упорное нежелание наемных рабочих исполнять условия подряда не из-под палки. «Я тебя прежде боялся, а теперь я тебя знать не хочу и живу здесь только из-за денег» — эта фраза, по специфической логике произнесшего ее мужика, полностью оправдывала его стремление уйти с работы, не исполнив ее и наполовину. «Но вот годовой рабочий Иван, яблоко раздора в первый же день между рабочими, румяный и здоровый малый, получавший больше всех годового жалованья, объявляет, что не будет доживать до срока. «Как же это ты не хочешь?» — «А если ж я болен и не могу работать?» (Я узнал, что его переманивают в город в дворники, где он и по сей день). Денег за ним не было, и я отпустил его, избегая жалоб, хлопот и проч. Но как подрывается принцип? Куда теперь! В страшных хлопотах не до принципов, лишь бы довести дело до новой наимки. Однако при этом обстоятельстве я начал смутно понимать, что это не вольный труд, а что-то не то».
Нынешняя ситуация острейшего дефицита надежных и квалифицированных рук, проступающего при первой же волне оживления производства, заставляет читать текст Фета с особым вниманием. Во всяком случае, беседуя с местными предпринимателями в различных уголках Приволжского округа, мне приходилось не единожды слышать почти точный повтор следующего рассуждения поэта-помещика:
«При вольном труде стройность ещё впереди. Прежде труд ценился мало; теперь он стоит высоко в цене, и все более и более становящиеся на его место машины не терпят малейшего невнимания, не только нерадения. Лошадь, не кормленная два дня, авось дотащится, а машина, несмазанная и несвинченная, наверное не будет работать. Кроме того, машина, этот плод глубоко обдуманных и стройных производств прилежного Запада, есть наилучший и неумолимый регулятор труда. Машина не требует порывистых усилий со стороны прислуживающего при ней человека. Она требует усилий равномерных, но зато постоянных. Пока она идёт, нельзя стоять, опершись на вилу или лопату, и полчаса перебраниваться с бабой. Отгребаешь солому, так отгребай точно так же в двадцатую часть часа, как и в первую, а то она тебя засыплет. Это качество машины, с непривычки, пока очень не нравится нашему крестьянину. Небогатый землевладелец Г. поставил молотилку и нанял молотников. Машина так весело и исправно молотила, что Г. приходил ежедневно сам на молотьбу. Через три дня рабочие потребовали расчет. Г. стал добиваться причины неудовольствия, предполагая в плохом содержании или тому подобном. Наконец один из рабочих проговорился: «Да что, батюшка, невомоготу жить. Сами ходите под машину: ишь она, пусто ей, хоть бы запнулась».
Увы, Фет ошибался в своей уверенности, что машина «засыплет». Тот всем известный факт, что автомобиль, сошедший с конвейера в Тольятти, как правило, необходимо заново перебрать вручную, убедительно показывает, что и через почти полтора века после того, как были записаны эти строки, до «стройности» формально вольного труда далеко. Да, на совершенно новых, созданных «с нуля» предприятиях это проклятое правило преодолено как в больших системах, вроде появившихся в последние годы супермаркетах, так и в самых малых, вроде автосервиса — строительного холдинга, с владельцем которого я беседовал в районном центре Мордовии, в Рузаевке. Однако до тех пор, пока прежние советские заводы не сменят управление хотя бы по разу и хотя бы по разу не перетряхнут гигантскую рабочую массу, выйти из-под гнета крепостной схемы по сути подневольного сознания будет невозможно.
Пытаясь осмыслить специфические обстоятельства устройства российской жизни, понуждавшей людей в последние годы дополнительно развить натуральное хозяйство не только в деревне, но и в городе, мы уже разучились изумляться тому, что большинству не хочется и недосуг оформлять пособие по безработице в центрах службы занятости. Мы обнаружили, что только в самых безнадежных местах добывание пособия является рутинным занятием тех, кто не желает напрягать силы на огородном участке. В прочих ситуациях старые навыки колхозного села (работали за «палочки» трудодней, жили с приусадебного участка) ожили с новой силой и в условиях города, куда большинство нынешних горожан перебралось из деревень, начиная с 70-х годов ушедшего века, составляя основную массу не только рабочих, но и образованного сословия. И этому явлению нетрудно найти параллель в записях Фета:
«Домашняя прислуга, кучер, лакей и пр. составляют отдельный вольнонаемный класс. В счет заработной платы идёт его помещение, пища и т. д. Ему прежде всего необходимо где-нибудь приютиться и затем уже получать плату, и на его труд время года не имеет влияния. Тут отношения между наемщиком и рабочим просты… Не таковы отношения наемщика к полевому работнику. Этот последний также землевладелец, не нуждающийся в помещении и продовольствии (я говорю о найме в земледельческой полосе), осенью ему нужны деньги на уплату повинностей или на свадьбу, и он нанимается в работники… ему нужны деньги не в будущем, а сейчас, безотлагательно, и он идёт наниматься, ставя первым условием, чтобы половина денег была ему уплачена вперед… Много надо философии, чувства, да и разных добродетелей для того, чтобы человек не забыл давнопрошедшего одолжения и условия; и как ожидать этих выспренных качеств от недоразвитого крестьянина, когда они так редки у нас и между образованными?»
Приходится признать, что едва приобретший городские навыки (и городские потребности) на протяжении жизни одного поколения обитатель не только малых, но и средних российских городов к началу третьего тысячелетия в массовом порядке оказался возвращен к состоянию «полевого работника». С одной стороны, это стало спасением для страны: при стремительном отказе государственной машины от прежних своих обязательств по отношению к универсальному наемному работнику архаика[67] аграрного труда на собственном приусадебном участке обеспечила сносные условия существования миллионам семей. С другой стороны, — за этим реверсивным явлением просматривается новая драма, так как подавляющее большинство новых «полевых работников» уже непригодно к обратному движению, вследствие чего на заводы какого-нибудь Ижевска в 2002 году приходилось вербовать рабочих в Казахстане, Молдавии и Украине.
Особенно важно то обстоятельство, что, опираясь в жизнеобеспечении на архаику аграрного хозяйства[68], «полевой работник» новейшего времени всё же остается в плену сугубо натуральных представлений. Продолжительные интервью во множестве малых городов со всей убедительностью показывают, что труженики огорода и хлева не различают доход и прибыль и, ведя тщательные подсчеты расходов на семена, рассаду и прочее, собственную работу не рассматривают вообще в экономических категориях. Они знают цену любой коммерческой услуге, которую приобретают или выменивают, будь то засыпка гравием, укладка асфальта или починка кровли, тогда как их собственный труд не обладает в их глазах стоимостью. И здесь, в натуральности, мы находим чрезвычайно любопытные аналогии у Фета: