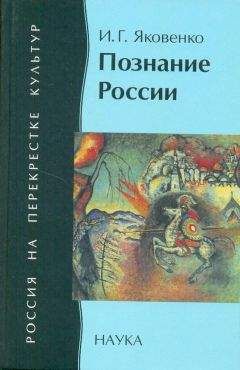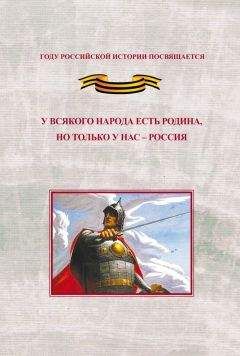Однако, дело в том, что князья Борис и Глеб были историческими личностями. Они — реально жившие люди оставившие по себе след в источниках. А это значит, что каноническая версия жизни и смерти князей-отроков подлежит исторической критике и научной верификации. Не располагай наука материалами, помимо церковного «Сказания о Борисе и Глебе», нам по сей день оставалось бы дивиться загадочным изгибам русской души.
Однако, в середине XIX в. на русский язык переводится и вводится в научный оборот так называемая «Эймундова сага»88. Это сказание об отважных скандинавских витязях нанятых в 1015 г. Ярислейфом (Ярославом Мудрым) и прославившихся на Руси. Сага раскрывает перед нами совершенно другую картину.
Был на Руси сидевший в Новгороде конунг Ярислейф, который боролся с законно занимавшим киевский стол князем Святополком. У Святополка был союзник — конунг Бурислейф (князь Борис), опиравшийся на печенегов. Князья с переменным успехом боролись за власть над Киевом и Русью. Однажды, (в 1018 г.), когда Святополк после крупного поражения ушел в союзную ему Польшу, Борис оказался один на один с Ярославом и последний получил шанс разделаться с братом. План убийства Бориса, предложил Ярославу и исполнил предводитель нанятой варяжской дружины Эймунд. В результате, Борис погибает. В конечном счете Ярослав победил в борьбе за Киев, а Святополк в очередной раз бежал в Польшу и следы его теряются.
Политическая логика канонизации, последовавшей в конце XI в. очевидна, если учесть, что в Киеве правят внуки Ярослава. Пикантность ситуации состоит в том, что безвинный Святополк, отстаивавший свои законные права нарекается Окаянным и превращается в символ бесовской низости, а реальный убийца Бориса — возвышается и прославляется. Эта метаморфоза имеет не только политическую, но и религиозную логику. Есть основания утверждать, что Святополк (как впрочем и Борис), был сторонником языческой партии, а Ярослав — христианской. Церковь умеет быть благодарной89.
Эта история заключает в себе серьезную нравственную и философскую проблему. В ней неожиданно высвечиваются не только некоторые сквозные характеристики России, но и звучит мистика русской истории. История первой канонизации дает толчок и к суждениям общекультурологического характера. В превращении конфликта Ярислейфа и Бурислейфа в трогательную историю отроков Бориса и Глеба, как и в не менее захватывающей трансформации оплачиваемого германским генштабом пассажира запломбированного вагона в героя житийной литературы, просматривается глубинная логика самоорганизации общества.
Эти трансформации заставляют вспомнить блистательные строчки Ахматовой — «Когда б вы знали, из какого сора/ Растут стихи не ведая стыда». То же можно сказать и о культуре. Эпическая эпоха не ищет идеалов в жизни. Она творит их из находящихся под руками реальных персонажей, закладывая в них модельные качества и ценности. В этой связи поучительно звучат рассуждения Павла Судоплатова относительно «дела Кирова». Излагая известную версию, (совпадающую со свидетельствами современников и очевидцев), согласно которой Киров — вообще говоря, большой «ценитель» балета и покровитель особ женского пола — состоял в интимных отношениях с молодой работницей «обслуги» Мильтой Драуле и был убит ее мужем Николаевым из ревности, Судоплатов пишет:
Я убежден: убийство Кирова было актом личной мести, но обнародовать этот факт — означало нанести вред партии, являвшейся инструментом власти и примером высокой морали для советских людей90,
Как видим, от летописца Нестора до генерал-лейтенанта Павла Судоплатова российская моральная традиция демонстрирует устойчивую континуальность, а между названными авторами обнаруживается больше общего, чем это может показаться с первого взгляда.
Изнанка должного. В этой связи стоит вспомнить идейную борьбу эпохи перестройки. Глубокий внутренний протест и бессильная ненависть к «прорабам перестройки», обвинения в очернительстве, оплевывании истории, губительном разрушении святынь, прямо связаны с рассматриваемой проблемой. Гласность запустила смертельный для традиционной ментальности (в ее советской версии) процесс верификации идеалов и ценностей культуры. Публикации эпохи гласности раскрывали, рассекречивали процесс сотворения должного. При этом обнаружилось, что идеал, опиравшийся на сакральный прецедент, лепился из страшной и омерзительной реальности.
Честные идеологи средневекового сознания, — а такие были и есть — восставали против самой установки на верификацию истинности советской нормы. В большинстве своем, они прекрасно знали все то, что обрушилось на голову массового человека. Но это было табуированное, подлежащее забвению, тайное знание. Десятилетия эти люди надеялись на то, что вот-вот вымрут последние свидетели, улягутся страсти и все забудется. Суть позиции, которую они просто не могли до конца проговорить вслух, можно сформулировать так: Да, действительно, у истоков нашего общества лежат страдания и кровь. Но мы облагородили эту реальность, очистили ее от страшных подробностей и создали высокие образцы борьбы за всеобщую справедливость, самоотдачи на благо общества, подвигов во имя своего народа. На этих образцах воспитывались поколения советских людей. Поднимая историческую истину, вы рушите стержень на котором держится великая держава, целая цивилизация.
Здесь мы вступаем в область философской дискуссии. Кому-то могут показаться близкими рассуждения о ценности веры как таковой, безотносительно к вопросу об истинности святынь. Можно согласится с тем, что культуре свойственно облагораживать (т. е. приводить в соответствие с комплексом общечеловеческих представлений) моральный образец, обретающий статус сакрального прецедента. И даже усмотреть в этом провиденциальный смысл.
Можно признать резонными соображения о том, что признание некоторых вещей высшей истиной миллионами людей неизбежно наделяет их какой-то онтологией и превращает в социально ценный культуротворческий момент. На определенном уровне вопрос об именах утрачивает смысл. В силу трансцендентной природы Создателя, всякий его образ — не более, чем знак, конвенция принятая в данной культуре. В различных культурах этот образ обретает самые причудливые очертания, за которыми стоит единая сущность неизмеримо более важная, чем форма.
Однако, Дух пребывает в обществе лишь до тех пор, пока в нем живет вера в абсолютную достоверность высших ценностей. И утрата этой веры свидетельствует о глубочайших тектонических сдвигах. Как ни облагораживает культура ложных богов, импульс безнравственного сохраняется в ядре системы ценностей и поклоняющееся фикции общество гибнет. История свидетельствует: народы поклоняющиеся ложным, т. е. архаическим, стадиально предшествующим богам проигрывают, а если упорствуют в своей вере — гибнут. Те же, кто поклоняется богам истинным — т. е. лежащим на фронте единого общеисторического процесса богопознания — побеждают. И в этом заложен не меньший провиденциальный смысл, нежели в процессах облагораживания страшных кумиров, принимаемых народами, сваливающимися в язычество из эпохи монотеизма91.
Рассматриваемый нами пример канонизации позволяет ответить на вопрос о том, как творится должное. Зададимся и другим вопросом — что закладывается в должное? Мы знаем, что средневековый человек мыслил сакральными прецедентами, которые служили для него моделями. В чем же смысл Бориса и Глеба как морально-нравственного образца? Дело не только в том, что во имя первичной и изначальной иерархии — иерархии патриархального возрастного старшинства (а к ней апеллируют и над ней надстраиваются все последующие иерархии, существующие в традиционной культуре: Царь-батюшка; Царица-матушка; Отец наш, заступник-барин; Отче-священник; Отец народов), отрок Борис пожертвовал своей жизнью и жизнью брата. Мы уже осознали, что иерархия превыше и во имя нее следует жертвовать и своей и жизнью близких. Но у этой истории есть и еще один аспект. Согласно житийной версии событий, Борис осознавал, что убивая его и брата, Святополк совершает неблагое дело, идет на преступление. Запрещая страже защитить их и отдавая себя и брата на заклание, он стал пассивным соучастником безнравственного, преступного деяния. Вот, где ядро притчи. Иерархия не подлежит моральной оценке и превыше всего. Дело человека — послушание любой ценой. А если иерарх не прав — так Бог его накажет, как наказал он Святополка, сгинувшего на чужбине. Строго в этой логике понимал русскую традицию Иван Грозный. Его обвинение Курбскому «что же ты отошел, а не принял венец мученический от царя-тирана», а с меня бы, дескать, Бог спросил — прямо вытекает из Сказания.
Вот где кроется социальный смысл истории Бориса и Глеба. И эти слова принадлежат не мифическим отрокам, а историческому Ивану Грозному и обращены к Курбскому, который не пожелал идти на заклание. Идеологические институты четко осознают свои интересы и умело формируют сакральные прецеденты. Разумеется, не все российские святыни столь скандально фиктивны, как Борис и Глеб. Вообще говоря, примеры такого рода можно обнаружить и в других культурах, от мифического св. Христофора в католическом мире до убитого в пьяной драке Хорста Весселя в мифологии нацизма. Тем не менее, все сакрализуемые русской культурой образцы несут в себе фундаментальную подмену.