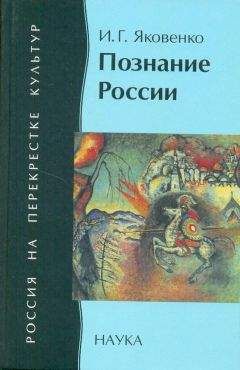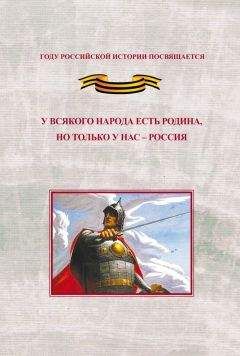Я все равно паду на той,
На той единственной гражданской
И комиссары в пыльных шлемах
Склонятся молча надо мной. (Б. Окуджава)
Революция понимается как замечательное время, когда должное не успело пройти цикл своего отрицания. Время, когда, за вычетом неизбежных шкурников и примазавшихся, масса идеалистов хранила верность чистому, незамутненному должному, боролась и умирала во имя Его. Однако далее, после полной победы должное вступает в неизбежный цикл перерождения, связанный с массовым овеществлением идеи. Из этих представлений вырастает главная, знаковая для поколения антитеза: хороший Ленин/плохой Сталин.
Преодолеть непреодолимую плоть можно лишь в эсхатологической перспективе. Сломать непреоборимую силу вещей может преображение, перерождение самого бытия и изменение природы. К сожалению, эсхатологические упования не сбылись и коммунизм не наступил. Поэтому реальность, окружающая шестидесятника, омерзительна. Но эта реальность не заслоняет главного и не в силах поколебать априорную интеллигентскую ВЕРНОСТЬ ДОЛЖНОМУ.
Шестидесятник живет в ощущении того, что если всю жизнь стремиться к чуду, жертвовать собой и совершать подвиги — однажды, неожиданно для тебя оно произойдет. Популярные в ту пору стихи «Сезам, ну откройся Сезам» не случайны. Если люди из поколения в поколение будут стремиться к должному, страдать и умирать во имя Его, то, рано или поздно, чудо произойдет, мечты и жертвы поколений откроют волшебные врата. Перед нами чистой воды эсхатологическое сознание эпохи спада и изживания эсхатологического видения мира. Это мироощущение уже надрывно. Временами человека охватывают сомнения. Но, открестившись от наваждения, российский интеллигент советского чекана снова припадает к великому должному. Не смотря ни на что и вопреки всему. Шестидесятник верен романтикам, дон-кихотам и готов встать в один ряд с очередными идеалистами. В этом — проявление его символа веры. В отличие от недалекого традиционалиста шестидесятник осознает, или признает, или допускает невоплотимость должного. По крайней мере, сейчас или в обозримой перспективе. Однако, отказ от должного для него немыслим и невозможен.
В подобной системе представлений Сталин плох не тем, что он злодей, но тем, что не умер вовремя, как Свердлов или Бауман. Воплощая должное, последовательный человек обречен пройти весь путь его перерождения в сатанинскую пародию. Однако, самое должное здесь не причем, вина лежит на природе вещей. И, далее, мир, превратившийся в пародию на должное, неизмеримо лучше, чище, прекраснее мира прошедшего мимо должного. Ибо в этой пародии хотя бы в облачении лжи и мертвых ритуалов живут священные формулы, и в том — залог их воскресения и конечной победы в эсхатологической перспективе. Рано или поздно, вопреки всему.
Описываемая нами антитеза высокого идеалиста, не/(минимально) затронутого сущим и вовремя погибшего, практику погрязшему в сущем, прошедшему весь путь перерождения в свою противоположность, не исчерпывается знаковыми фигурами и носит универсальный, характер. Социолог Борис Славный делает тонкое наблюдение: погибший в девятнадцать лет отец героя культового для 60-х годов фильма «Застава Ильича» нравственно выше (как не прикоснувшийся к бытию и ушедший из мира, сохранив себя в чистоте) собственного сына, который не только старше отца, но живет в мирное, не жертвенное время, когда соблазны окутывают и поглощают человека130.
Здесь мы сталкиваемся с мощной, но не отрефлексированной, мало того, табуированной к осознанию традицией, имеющей массу проявлений во все времена и в разных срезах культурного универсума. Достаточно вспомнить о том, что среди апокрифов, имевших устойчивое хождение на Руси — народные сказания о творении мира Богом и Дьяволом совместно («Свиток Божественных книг» или «Сказание о Тивериадском море»). Истоки гностической компоненты российской ментальности — большая и специальная тема. В двух словах это и особая ментальность лимитрофа или порубежья, для которой отторжение мира оказывается естественной реакцией, и наследуемые восточными славянами элементы иранского культурного космоса, в котором живут манихейские и гностические идеи, и продуцирующая дискомфорт ситуация неимманентного развития, и принесенная из Византии гностическая интенция ортодоксального христианства. Мироотвержение и вырастающая из него позиция «неучастия во зле» жизни постоянно продуцируют эсхатологические настроения. Ибо смысл конца времен в гибели этого мира и пресуществлении Вселенной в соответствии с чаемым должным.
КОНТУРЫ АПОКАЛИПСИСА
Культурные смыслы и положенности. Несмотря на существование достаточно мощной традиции, представленной и в канонической, и в апокрифической литературе, конкретность апокалипсиса слабо очерчена. Да она и не может быть описана. Конец времен, как и все глубоко сакральное, апофатичен. Апокалипсис — тайна Господня. Описания, которые встречаются в источниках, касаются скорее преддверия апокалипсиса, предшествующих ему событий; язык этих описаний — метафора. Ядро апокалипсиса — преображение мира, и это — неизреченная тайна, ужасная и прекрасная. Предшествующие тому события — пришествие Лжемессии, битвы, казни и суд — лишь необходимое условие свершения главного. Верующий человек исходит из того, что христианская душа почувствует приближение Страшного Суда над погрязшем в грехе миром. Поэтому личные свидетельства и убеждения, черпаемые из глубины человеческой экзистенции, оказываются в подобных дискуссиях решающими.
Отношение к апокалипсису характеризуется предельной силой переживания и столь же предельно выраженной амбивалентностью. Конец времен невыносимо страшен. Желание отодвинуть его органично и естественно. Конституирующая православную империю концепция Удерживающего строится на стремлении отдалить конец Вселенной. С другой стороны, жизнь в невыносимо уклонившимся от должного мире не менее ужасна. Ужасна, ибо актуальное торжество Кривды ставит под сомнение самое Должное. А потому, иногда наступают моменты, когда Апокалипсис не только осознается как неизбежный, но переживается как предельно чаемый. Речь идет об особом состоянии массового сознания, об эсхатологической истерии. О партиципации к хаосу, как состоянию, способствующему разрушению ненавистного мира. Это переживание сопровождается мощнейшим выбросом всех деструктивных эмоций и сопровождается самоуничтожением общества, впадающего в эсхатологическое неистовство. Такова феноменология российского бунта, смуты, эпох массового террора.
Заслуживает внимания ключевой момент в осмыслении конца света. Идея Апокалипсиса — одно из предельных выражений инверсионного сознания. Это означает, что несказанное блаженство и невыразимое совершенство грядущего мира требует немыслимых ужасов и непереносимых страданий по другую сторону Инверсии. Общественные бедствия и катастрофы в ходе Апокалипсиса обретают свое оправдание в последующих переменах. Как замечает А. Клибанов, анализ текстов Откровения Мефодия Патарского или Жития Андрея Юродивого показывает, что тотальные бедствия предваряют тотальную перемену. В этом их смысл и космическое оправдание131.
Описанные идеи не исчерпываются памятниками средневековой религиозной мысли. Перед нами в высшей степени устойчивая система представлений. Вот что пишет один из самых ярких адептов архаики А. Проханов:
Сталин пришел в начале кромешного века, среди войн, революций, великой сатанинской лжи, великого бесовского обмана, на костях народов и на руинах царств, среди сожженных библиотек и оскверненных храмов, когда в России вновь забрезжило Раем. В утробе дрогнул и затрепетал дивный младенец132.
Здесь мы прикасаемся к исключительно важной для традиционного сознания идеи пресуществления вселенной. Пресуществление мыслится как инверсия, а логика инверсии предполагает переполюсовку параметров бытия. Чем больше крови и мучений, чем выше хаос в состоянии до пресуществления, тем невыразимее будет чистота нового мира, который откроется по вхождении в Царствие небесное. Мир надо залить кровью и страданием во искупление всех и всяческих грехов. И чем сильнее будет хаос, чем невыразимее ужас — тем скорее мир пресуществится, тем скорее настанет Новая жизнь и тем прекраснее она будет.
Отсюда стремление к предельной хаотизации бытия «практиков» отечественной апокалиптики (от Грозного, до Сталина). Уничтожая несчастных, Иван Грозный не только спасал их души, гарантируя им посмертное блаженство как невинно претерпевшим, но, заливая кровью, спасал и весь православный мир, обрекая его на торжество Благодати. Такая трактовка причинно-следственная связь между террором эпохи Ивана Грозного и острейшими эсхатологическими ожиданиями раскрывается в монографии А. Юрганова133.