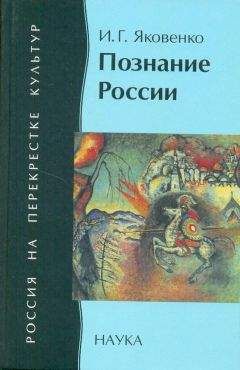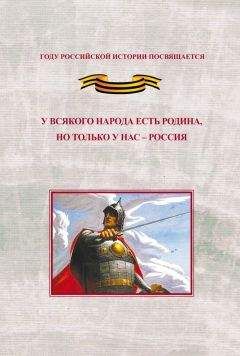Итак, в обществах, прошедших рубеж дуалистической революции и оказавшихся в ситуации неимманентного развития, эсхатологические настроения оказываются естест венной реакцией на стресс навязанных историей изменений. Догоняющее развитие задает переживание истории, т. е. жизнь в рамках цивилизации и государства, внутри процесса бесконечного распада синкрезиса, как фундаментальное уклонение от должного.
Крах устойчивого мира, к которому традиционный субъект более или менее адаптирован, переживается как конец Вселенной и торжество хаоса, а, значит, Нечистого. Анализ конкретного историко-культурного материала (и прошлого, и современного) показывает, что в адекватном сознании образ Лукавого тождественен исторической динамике и маркирует процессы распада синкрезиса. Градиент усложнения и динамизации — критерий, по которому идеологи традиционализма безошибочно узнают руку Князя Тьмы. В сознании традиционалиста должное равно изначальному синкрезису и покоится где-то в глубинах антропогенеза до всех разделений, до имущественного и социального неравенства, до слез и печалей.
Описывая царство царя Михаила, Пересветов видит во всеобщем «поравнении» способ чудесного преображения мира, в котором исчезнут все проблемы и настанет «радость, и веселие, и тишина великая»127. Воспринятая Шариковым идеология Клима Чугункина — мы имеем в виду принцип «взять и поделить» — имела весьма глубокие корни. За нею стоит определенное понимание природы человека и общества. Если все созданное человеком, взять и поделить, история прекратит движение свое. Более того, сама по себе история есть трагическое и греховное уклонение от должного порядка вещей, снимаемое в эсхатологической перспективе.
Рай мыслится как тотальная нерасчлененность, бытие вне времени и социальности, история же и цивилизация — как торжество сущего. Эсхатология есть осмысление интенции к бегству из истории и государства, бегству из навязанных догоняющему традиционалистскому обществу неимманентных состояний. Эсхатология — идеология архаика и традиционалиста, распятого на дыбе исторической динамики128.
Неприятие происходящего обостряется при переходах общества через стадиальные рубежи, когда изменение носят тотальный характер. Переходы от раннего государства к зрелому, от жизни на периферии или в рамках догосударственной окраины к жизни в пределах регулярного государства. (Так, казачество восстает на всех этапах последовательного вписания его в систему Московского государства.) От крестьянского общества к урбанистическому, от бесписьменной фольклорной культуры к письменной. От одной идеологии к другой. Наконец, от конкретной идеологии к ситуации деидеологизации. Все эти ситуации осмысливаются в рамках эсхатологической парадигмы и провоцируют эсхатологические настроения.
Провоцирующий эсхатологизм сознания — периферийный статус российской цивилизации. Как было показано выше, Россия относится к классу периферийных цивилизаций129.
Главная особенность периферийной цивилизации состоит в том, что она развивается «на голом поле». В своем развитии периферийная цивилизация лишена опоры в предшествующем цикле, «Гумус» — наращиваемый веками культурный слой, минимизирован и качественно не соответствует задачам цивилизационного строительства, а использование его предельно интенсифицировано.
Здесь широко представлена догосударственная ментальность, попавшая в стрессорную для себя ситуацию постоянного изменения. Нет предметного тела ушедшей цивилизации, нет стереотипов, воспоминаний и рефлексов, восходящих к предшествующему цивилизационному циклу. Выходцы из периферии усматривают в бытии вторичных цивилизаций некоторую усталость. Но неизмеримо важнее готовность человека к жизни внутри цивилизации, «пригнанность» этого человека к характеристикам пространства цивилизации. Способность к существованию в ситуации исторической динамики.
Периферийная (как и очаговая) цивилизация предельно стрессорна. В ней нестерпимо сложно и мучительно проходить первые пути бытия-в-истории. Здесь рядом с моментами качественно новыми доживает глубочайшая, восходящая к неолиту архаика. По всему этому цивилизации периферийные, как и очаговые, подвержены периодически распадам. Представляют собой благоприятное поле бытования ретроспективных утопий. В этой ситуации эсхатологизм оказывается структурой, оформляющей бегство от динамики, бегство от нестерпимо сложной жизни в цивилизации, надежду на то, что однажды испытание историей завершится, и человек вернется в Рай бытия-вне-истории.
Мироотречная, гностическая компонента российской ментальности. Мироотречная интенция в той или иной мере присуща христианству вообще. Сама по себе идея должного провоцирует гностические смыслы и положенности. Верность должному задает отторжение от мира и неприятие природы вещей, которая обеспечивает торжество сущего. Мир греховен, его природа порочна. Именно по этому «правильный» средневековый человек живет здесь, но душой устремлен к миру иному.
В православии мироотречная интенция представлена существенно сильнее, чем в католицизме. В зрелом протестантизме мироотречная линия практически снимается. В русской ментальности гностическая нота звучит особенно сильно. Мир вообще зло и конец его есть избавление от зла, конец страданий и конец трагической раздвоенности. Одним словом, Большое избавление. Плотское греховно. Здесь мы приходим к гностическим истокам и сюжетам российской ментальности, к монофизитству, докетизму, к противостоянию плоти. Эта устойчивая и значимая компонента ментальности принимает самые разные формы и очертания.
Оговоримся, речь идет о смыслах и положенностях, не оформленных доктринально, ибо, будучи осознанной и сформулированной, гностическая идея вступает в конфликт с системой декларируемых представлений. И это противоречие — одна из граней раскола русского сознания. Однако в снятом виде, в частных следствиях, в конкретных идеях и положенностях, гностицизм пронизывает русскую ментальность.
Зададимся вопросом — как советская идеология ассимилировалась традиционным сознанием? Где лежат ценностные и логические мостики, позволявшие людям освоить и принять советские установки? К примеру, в идеологической картине классического периода советского общества (30 — 50-е годы) такие реалии, как дача, любая собственность сверх предметов обихода, отдельная квартира, носили негативный характер, рассматривались как попущение и требовали оправдания. В публицистическом жаргоне советской эпохи бытовали ругательства — «вещизм» и «потребительство». Что, помимо конформизма, двигало людей к искреннему принятию подобных установок, казалось бы, противоречащих человеческой природе?
Дело в том, что удобный и обустроенный быт свидетельствует о движении человека в мир, движении прочь от эсхатологического идеала. Эсхатология же — движение от ЭТОГО МИРА. Мирское равно мещанскому, мещанство же — самое страшное ругательство в устах российского интеллигента. Погруженность в мир сама по себе греховна и профанна. «Духовность», стремление выпрыгнуть из мира — возвышенна и сакральна. Знаменитая непрактичность шестидесятника, его презрение к деньгам и социальным реалиям формировали тип личности, способной успешно ориентироваться в сфере возвышенных, духовных интересов, но беспомощной в мире реальном. Лозунг «человек должен быть выше сытости» (Л. Толстой) — в своих основаниях гностический, вырастающий из презрения к плоти.
Репрессивность традиционной русской культуры, высокий статус монашеского, аскетического идеала (до которого простой смертный, разумеется, не дотягивает, но в идеальном плане стремится, или, по крайней мере, утверждает, что стремится) в своих основаниях так же пронизаны гностическими смыслами.
Обратим внимание на приверженность шестидесятников XX в. к чистому идеалу на фоне отрицания всякой практики («сволочной действительности») как стихии, трансформирующей, размывающей и травестирующией идеал. Суть этой системы воззрений состоит в том, что дух, идея, должное — прекрасны сами по себе, в чистом виде. Однако, высокому должному противостоит непреоборимая сила природы «мира сего». Поэтому, облекаясь во плоть, идеи должного фатально извращаются, превращаются в свою противоположность, омертвляются. Главный ужас ситуации состоит в том, что в этом извращенном виде изуродованная идея предстает перед недалекими и пришедшими позже людьми в качестве собственно должного. Так происходит страшная подмена, извращение высокого идеала в глазах профанов. Отсюда шестидесятническая мифология революции:
Я все равно паду на той,
На той единственной гражданской
И комиссары в пыльных шлемах
Склонятся молча надо мной. (Б. Окуджава)