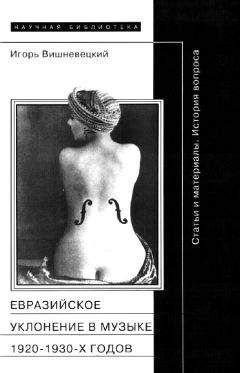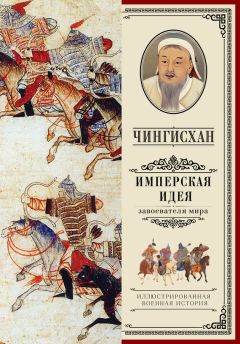— Лосев Алексей. Мировоззрение Скрябина. <Москва, 1919–1921 гг.> // Лосев Алексей Федорович. Форма Стиль Выражение. — М.: Мысль, 1995. — С. 733–779.
— Лапшин И. И. Заветные думы Скрябина. — Пг.: Мысль, 1923. — 39 с.
— Сабанеев Л. Скрябин. — М.; Пг.: Государственное издательство, 1923. — 2-е изд., перераб. — 203 с.
— Шлецер Б.Ф. А. Скрябин: Монография о личности и творчестве. — Т. I: Личность, мистерия. — Берлин: Грани, 1923. — 358 с. (Объявленный второй том издан не был.)
Лурье фактически полемизирует с данным в 1917 г. Вячеславом Ивановым определением Скрябина как «русского национального композитора» и «пламенного патриота по живому чувствованию своих духовных корней, по органической любви к складу и преданию русской жизни, по вере в наше национальное предназначение» (ИВАНОВ, 1994: 387), хотя и соглашается с тем, что в «демоне», как выражается Иванов, или «люциферическом огне», как говорит он сам, Скрябина можно действительно разглядеть выражение «души революции» (Там же: 385). Скрябин, согласно Лурье, — композитор не для всего народа, но, как Чайковский, — выразитель интеллигентских умонастроений. При этом Лурье поразительно близок Мандельштаму и Лосеву, о содержании работ которых он, скорее всего, не знал. Оба автора чрезвычайно критически оценивали индивидуализм Скрябина. «Голос — это личность. Фортепиано — это сирена. Разрыв Скрябина с голосом, его великое увлечение сиреной пианизма знаменует утрату христианского ощущения личности, музыкального „я есмь“», — утверждал Мандельштам (МАНДЕЛЬШТАМ, 1990, II: 159). «Скрябин [ — ] причудливая смесь языческого космизма с христианским историзмом. <…> В Скрябине — гибель самого мистического существа Европы, <…> когда все внутри сгнило и индивидуализм перешел (совсем по Гегелю) в свое отрицание», — вторил ему Лосев (ЛОСЕВ, 1995: 771, 775). Однако подлинным объектом полемики и рефлексии у Лурье является позиция Сабанеева, еще в предисловии к первому (1916) изданию своей монографии о Скрябине писавшего: «…было бы странно и неправильно <…> рассматривать его творчество только под углом музыкального созерцания. Слишком доминирующую роль в жизни великого мистика-композитора или, может быть, художника, жаждущего быть мистиком, играли эти извне привходящие факторы, идеи и мечтания…» (САБАНЕЕВ, 1923: IV; стиль автора оставлен без изменений).
Отличает Лурье от почти всех, кто писал о Скрябине в конце 1910-х — начале 1920-х, большая осторожность. Будучи сам оригинальным композитором, он понимает, что «те упреки, которые могут быть сделаны по адресу идеологии Скрябина, к его музыке относятся слабо. Скрябин прежде всего был и является музыкантом». Более того, указывает на то, что «философия Скрябина очень важна лишь при изучении его произведений и исследовании их», но несущественна для контекстуализации скрябинского творчества и при целостном анализе композиторского наследия Скрябина. Лурье подвергает критической переоценке и размышления Сабанеева о скрябинском пианизме, а также его теорию «ультрахроматизма».
Во-вторых, «Скрябин и русская музыка» есть существенный этап в разработке музыкальной эстетики и взгляда на историю русской музыки у самого Лурье. Гегельянский пафос выступления выражается в попытке соединить мистерию импровизационного исполнения и намечавшегося к сходному исполнению Предварительного действия к мировой Мистерии Скрябина, по сравнению с которыми «то, что оставлено им в его тетрадях, является лишь шифром к его вещам», — с троичной диалектикой тезиса («внешнее восприятие мира идей, чувств и форм») — антитезиса (Скрябин сам как импровизационный исполнитель) — синтеза («экстатическая форма» как «воплощение целого»). Выступление свидетельствует о зарождении у Лурье серьезного интереса к диалектической разработке историко-эстетических категорий, впоследствии, в 1920–1930-е годы приведшей его к необходимости дополнить классическую троичную диалектику Гегеля четвертым элементом (о чем подробнее см. в монографическом исследовании).
Многочисленные дополнения к сказанному в речи «Скрябин и русская музыка» содержатся в материалах незавершенной книги о Стравинском, статьях «Пути русской школы» (1931–1932) и «Линии эволюции русской музыки» (1944). Окончательное, итоговое суждение о Скрябине дано Лурье во фрагменте «Видение Скрябина», включенном в «Осквернение и освящение времени» (LOURIÉ, 1966: 152–153).
Как будто (лат.).
Насколько мне известно, первое в открытую антирыночное высказывание в музыкально-эстетических работах Лурье — свидетельство произошедшей адаптации к общезападному контексту.
«У тех, кто ≈ в концепцию времени музыкального». Ср. с переформулировкой данного пассажа: «Одна из тенденций может быть определена как неоготика ≈ стремится к определенному для себя месту в концепции музыкального времени» — в «Неоготике и неоклассике», а также с развитием концепции музыкального времени у Сувчинского.
Жизненность (фр.).
Имеются в виду романсы Стравинского «Два стихотворения К. Бальмонта для высокого голоса и фортепиано» (1911): № 1 «Незабудочка-цветочек»; № 2 «Голубь».
Соната для фортепиано fis-moll создавалась в 1903–1905 гг., рукопись ее осталась в России и была впервые издана лишь в 1974 г.
Если уж быть совсем точным, создававшаяся в 1906–1907 гг.
Более известное как «Фантастическое скерцо», ор. 3 (1907–1908).
Рукопись была оставлена Стравинским в России во владении семьи Римских-Корсаковых (чье отношение к композитору с годами становилось все более неприязненным) и считается ныне утраченной.
Имеются в виду «Две песни на стихи С. Городецкого», ор. 6 (1907–1908) и «Два стихотворения Верлена», ор. 9 (1910).
«При всем моем остром интересе к новой инструментовке, подобной инструментовке „Жар-птицы“, решусь ли я отрицать то, что другим музыкантам это — отнюдь не пример для подражания? Стравинский, конечно, и не помышляет отрекаться от „Жар-птицы“, однако, переоркестровав партитуру, несмотря ни на что, бессознательно привнес в нее свои нынешние аудитивные интересы. Он добавил некоторые изящные эффекты, которые ему лично уже не интересны, но многие из слушателей ими покуда не пресытились. Имел ли он право на это?» (Э. Вюйермоз, «Музыка наших дней». Париж, 1923) (фр.).
Данное замечание Лурье свидетельствует о том, что Стравинский, пригласивший в Лондон на премьеру «Соловья» А. Н. Римского-Корсакова и М. О. Штейнберга, прекрасно был осведомлен о тогдашнем отношении к нему клана Римских-Корсаковых. Вот только некоторые из высказывавшихся ими заглазно суждений, собранные В. П. Варунцем. Андрей Римский-Корсаков писал 4/17 июня 1914 г. из Лондона матери Надежде Николаевне (вдове Н А. Римского-Корсакова) о Стравинском и окружающих Дягилева людях: «Они изолгались, ничьему слову нельзя верить — сволочь первосортная» (СТРАВИНСКИЙ, 1988–2003, II: 264). Ему вторил в посланном в тот же день из Лондона письме к жене (сестре Андрея Римского-Корсакова) Максимилиан Штейнберг: «Поведение Игоря самое возмутительное — говорит кисло-сладкие слова и делает свинство на каждом шагу — я тебе еще расскажу про его действия в Париже. Он мне стал противен в высшей степени <…> Сегодня генеральная репетиция „Соловья“. Не знаю, пойду ли, очень противно видеть всю эту архифалышивую публику» (Там же: 265). Источником такого отношения были, разумеется, не поступки Стравинского, продолжавшего демонстративно поддерживать друзей юности, а определенная ревность когдатошних друзей к зарубежным успехам Стравинского, что косвенно подтверждается письмом жены композитора от 5/18 июня 1914 г. к мужу Е. Г. Стравинская все еще числила Римских-Корсаковых среди добрых знакомых семьи «Как меня интересует ваш разговор с Андреем! А Надежда Николаевна? Ты ничего не пишешь, очевидно, она не приехала» (Там же).
Китайщину (фр.).
Песня соловья (фр.).
Ср. в выступлении Лурье «Скрябин и русская музыка» (1920):
«…Стравинский отразил мистические звучности Скрябина на его „Прометея“ — почти непосредственно вслед за появлением этой поэмы, в своем произведении, которое возникло в известной мере как реакция против утонченной мистики, которой Скрябин наполнил русскую музыку в первом десятилетии XX века в народном лубке, почти программно описательном — в „Петрушке“…»