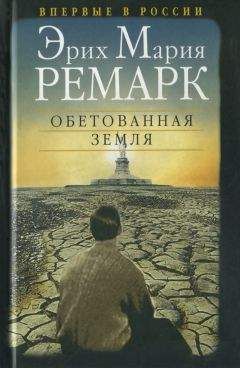— Ну вот, — объяснил он. — Теперь мое самолюбие снова в порядке. А то эта кобыла его совсем расшатала.
Я уставился на него недоуменным взглядом.
— Я просто беда как вспыльчив, — пояснил Сильвер. — Холерик хуже некуда. У водителя было полное право меня обругать, а у этой дуры — нет. А так они уравновесили друг друга. Душевный мир восстановлен. Хотите круассан к своему кофе?
— С удовольствием.
Я не совсем понял логику Сильвера, но охотно согласился на предложенный круассан. Казалось, после военных лет во Франции и эмигрантской голодухи в моем желудке появилась сквозная дыра: есть я был готов в любой час дня и ночи, причем не важно что. Гуляя по городу, я то и дело останавливался перед витринами, самозабвенно разглядывая выставленные там вкусности: громадные куски ветчины, торты и всякие деликатесы.
Сильвер вытащил кошелек.
— Бронзу мы сбыли, — торжественно заявил он. — Музей прислал телеграмму. Они ее выкупают. Даже за большую цену, чем мы рассчитывали. А того куратора они заменили. Не только из-за нас. Он допустил еще несколько ошибок. Вот ваша доля.
Он положил две стодолларовые бумажки возле моей тарелки с круассаном.
— Довольны?
Я кивнул.
— А как быть с авансом? — поинтересовался я. — Я должен вернуть его из этих денег, или вы вычтете его у меня из жалованья?
Сильвер рассмеялся.
— Мы уже в расчете. Вы заработали триста долларов.
— Двести пятьдесят, — возразил я. — Пятьдесят долларов я заплатил из своих.
— Правильно. А когда мы продадим ковры, вы снова получите премиальные. Мы же люди, а не машины для заколачивания денег. Это раньше мы были машинами. Согласны?
— Согласен. Даже очень. А вы вдвойне человек, господин Сильвер!
— Еще круассан?
— С удовольствием. Они восхитительны, только очень уж маленькие.
— Здорово здесь, правда? — сказал Сильвер. — Всю жизнь мечтал о таком: хорошее кафе рядом с работой.
Он то и дело косил глазами через поток автомобилей в сторону нашей лавки, высматривая, не появился ли покупатель. Он был похож на отважного воробья, усердно выискивающего съедобные крошки среди тяжелых конских копыт. И тут он вдруг глубоко вздохнул.
— Все бы было хорошо, если бы не мой брат с его безумной идеей.
— Что за идея?
— У него есть подружка. Шикса. Так представьте себе, теперь он хочет на ней жениться! Это же трагедия! Мой братец всех нас в гроб сведет?
— Шикса? Это что такое?
Сильвер удивленно уставился на меня:
— Как, вы не знаете? Вы же еврей! Ах да, вы ведь агностик. Ну так вот, шикса — это христианка. Христианка с выбеленными перекисью висками, глазами как у селедки, а в пасти у нее сорок восемь зубов, готовых вцепиться в наши потом и кровью сбереженные доллары. Выкрашенная гиена с кривыми ногами, причем обе ноги правые!
Представить себе такую картину было нелегко — у меня это вышло не сразу.
— Моя бедная мамочка, — причитал между тем Сильвер. — Она бы перевернулась в могиле, если бы ее не сожгли восемь лет назад. В крематории.
Я так и не вник в смысл всей этой путаницы — его последнее слово оглушило меня, как удар набата. Я невольно отодвинул тарелку. В воздухе стоял хорошо знакомый сладковатый приторный запах, от которого меня чуть не стошнило.
— В крематории? — переспросил я.
— Да, здесь это самый простой способ. И самый чистый. Она была верующей иудейкой, родилась еще в Польше. Знаете…
— Знаю, знаю, — поспешно перебил его я. — Так что же ваш брат? Почему бы ему не жениться?
— Только не на шиксе! — возмутился Сильвер. — В Нью-Йорке найдется больше порядочных еврейских девушек, чем во всей Палестине. Здесь каждый третий еврей! Он что, не может найти себе нормальную еврейку? Нет, он просто уперся, и все тут. Он даже из Иерусалима привез бы себе какую-нибудь Брунгильду.
Я молча слушал излияния Сильвера, остерегаясь указывать ему на парадоксальность такого перевернутого антисемитизма. В таких вопросах нет места ни шуткам, ни даже ироническим сравнениям.
Наконец Сильвер взял себя в руки.
— Я и не собирался вам этого рассказывать, — заявил он. — Вам не дано понять всю глубину этой трагедии.
— Да, не вполне. Для меня трагедии почти всегда как-то связаны со смертью. А вовсе не со свадьбами. Должно быть, я человек примитивный.
Сильвер кивнул. Он даже не усмехнулся.
— Мы верующие евреи, — повторил он. — Мы женимся только на своих. Этого требует наша религия. — Он взглянул на меня. — Так вы говорите, в религии вас совсем никак не воспитывали?
В ответ я только отрицательно покачал головой. Я снова забыл, что он считает меня евреем.
— Стало быть, вы атеист, — сказал Сильвер. — Вольнодумец. Что, это правда?
Я на минуту задумался.
— Я атеист, который верит в Бога, — сказал я наконец. — По ночам.
Людвиг Зоммер, чье имя я носил, нелегально работал в Париже реставратором картин у одного антиквара. Некоторое время я был его носильщиком: у Зоммера было больное сердце, и он с трудом мог передвигаться. Его главным коньком были древние ковры. В них он разбирался лучше, чем большинство музейщиков. Он водил меня к подозрительным армянам и туркам, торговавшим коврами, объяснял мне различные трюки фальсификаторов и учил их распознавать. У них все было так же, как с китайской бронзой: требовалось в точности знать и уметь сопоставлять ткацкие техники, краски и узоры орнамента; именно здесь они чаще всего ошибались — по большей части это были необразованные ремесленники, которые слепо копировали древние ковры, исправляя, однако, все неправильности оригиналов. А как раз неправильности и были вернейшим признаком подлинности; так, ни один подлинный ковер не был одинаковым с лица и с изнанки. Древние мастера верили, что таким образом можно избежать несчастья, к тому же от этих неправильностей ковры становились живее. Напротив, во всех подделках чувствовалась какая-то тяжесть и несвобода. У Зоммера была целая коллекция маленьких фрагментов, по которым он объяснял мне различия. По воскресеньям мы ходили в музеи, чтобы изучать выставленные там шедевры. Золотое было время, лучшее за все годы моих странствий. Жаль только, что оно оказалось слишком коротким — всего одно лето. Тогда я и выучил все то, что мог рассказать о турецких ковриках Сильвера.
То было последнее лето Зоммера. Он знал об этом и не строил никаких иллюзий. Он знал и о том, что реставрирует картины для жулика, который выставит их под именами других мастеров, но не пытался даже иронизировать по этому поводу. На это у него уже не было времени. Он многое пережил и многое потерял, но при этом он настолько оставался человеком разума, что смог изгнать из последних месяцев жизни всякое чувство горечи. Он был первым, кто пытался прививать мне чувство меры в раздорах с судьбой, чтобы до времени не пасть ее жертвой. Я так и не научился этому, как не научился и другому искусству: откладывать месть на потом в ожидании лучших времен.
Это было странное, какое-то невесомое лето. Чаще всего мы сидели на острове Сен-Луи, где находилась мастерская Зоммера. Он любил молча посидеть на берегу Сены, а вокруг него было только бездонное небо, высокие облака, солнечная рябь на воде, мосты над рекой и маленькие буксирные пароходики. Свои последние недели он провел где-то по ту сторону слов. Слова были уже неважны по сравнению с тем, что он покидал, да ему и без того не хотелось ни пускаться в объяснения, ни жаловаться, ни сентиментальничать. Вот оно небо, вот твое дыхание, вот твои глаза, а вот и жизнь, которая ускользает от тебя, и противопоставить этому можно только одно: легкую, почти безрассудную радость, тихую благодарность и собранность человека, смело смотрящего в лицо близкой смерти, без страха и содрогания стоящего на пороге небытия, чьи когти готовы впиться тебе в горло.
Зоммер был мастером оптимистических сравнений, полных меланхоличного эмигрантского юмора: все плохое могло быть еще хуже. Ты лишился всего имущества, а мог бы и сам оказаться в немецкой тюрьме; тебя всего лишь пытали, а могли бы и замучить на работах в концлагере; тебя замучили на работах в концлагере, а могли бы отдать эсэсовским врачам для экспериментов и медленной вивисекции — и так далее до самой смерти, но и тут было две неравноценные возможности: можно было сгореть в печи, а можно и сгнить в общей могиле.
— Я мог бы заработать и рак кишечника, — говаривал Зоммер, — или даже рак горла в придачу. Или мог бы ослепнуть. — Он улыбался. — Столько разных возможностей! А тут сердце — такая чистая болезнь. Какая синева над нами! Ты только посмотри на эту синеву! Что за небо! Синее, как древний-древний ковер!
Тогда я не понимал его. Я был слишком занят своими мыслями о несправедливости и отмщении. Но его слова меня трогали. Пока у него оставались силы, мы заходили посидеть в церквях и музеях. С древних времен они были приютом беженцев, и полиция не решалась там появляться. Лувр, Музей декоративных искусств, музей Жё-де-Пом[26] и Нотр-Дам стали новой родиной для эмигрантов из разных стран, которые обретали здесь безопасность, утешение, а заодно и узнавали что-то новое. В церквях беженцев ожидали те же духовные блага, но, увы, не божественная справедливость. В ней все мы порядком разуверились, в отличие от искусства.