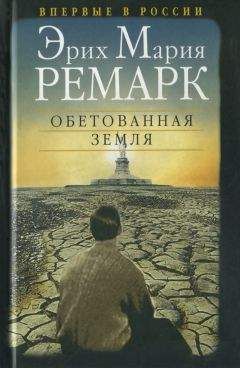Он оказался человеком с изящной внешностью, тихим и скромным, — короче, совсем не таким, как я его себе представлял. Мою благодарность за поручительство он незамедлительно отверг.
— Мне это не стоило ни гроша, — улыбаясь, объяснил он. Он провел нас в салон, переходивший в громадную столовую. Я застыл в дверях.
— Боже мой! — вырвалось у меня.
Три больших стола были составлены в форме подковы. Они ломились от блюд, подносов и тарелок, так что под ними не было видно скатерти. На левом столе красовались всевозможные пирожные и в том числе два гигантских торта: один темный, залитый шоколадом, с надписью «Танненбаум», а другой розовый, увенчанный марципановыми розочками и надписью «Смит».
— Изобретение моей кухарки Розы, — объяснил Танненбаум. — Мы не смогли ее отговорить. Торт «Танненбаум» разрежут и съедят сегодня. А торт «Смит» — завтра, когда мы вернемся с церемонии получения гражданства. Вот такой символический акт замыслила наша кухарка.
— А почему вам пришло в голову назваться именно Смитом? — поинтересовался Хирш. — Фамилия Майер такая же распространенная. И как-то больше похожа на еврейскую.
Танненбаум смутился.
— Это никак не связано с нашей национальностью, — начал оправдываться он. — Мы и не думаем от нее отказываться. Но и носиться со своей нелепой фамилией, как с рождественской елкой, тоже не собираемся.
— На острове Ява люди меняют свои имена по нескольку раз в жизни, — подтвердил я. — Смотря по тому, кем они себя ощущают. По-моему, очень разумный обычай. — Свою речь я закончил, завороженно уставившись на курицу под соусом из портвейна, лежавшую прямо перед моим носом.
Танненбаум все еще был несколько обеспокоен, что задел религиозные чувства Роберта. Он кое-что знал о его французских подвигах в роли Иуды Маккавея и очень его уважал.
— Не желаете ли чего-нибудь выпить? — спросил он.
Хирш рассмеялся:
— Ну по такому случаю только шампанского. Самого лучшего. «Дом Периньон».
Танненбаум покачал головой:
— Такого у нас нет. Сегодня, во всяком случае. Сегодня у нас вообще не будет французских вин. Не будем вспоминать о прошлом. Нам предлагали раздобыть и голландского джина, и мозельских вин. Но мы отказались — слишком уж мы настрадались в тех краях. Америка нас приняла, так будем сегодня пить только американские вина и американскую водку. Вы же понимаете нас, не так ли?
Судя по всему, Хирш его не понимал.
— А что с вами стряслось во Франции? — недоумевал он.
— Меня не пропустили через границу.
— И теперь вы в отместку единолично объявили Франции блокаду? Винную войну? Оригинальная идея!
— Вовсе не в отместку, — заверил его Танненбаум. — Просто в знак благодарности стране, которая нас приютила. Вот вам калифорнийское шампанское, вот белое вино из Нью-Йорка и Чили, а вот и местный бурбон. Мы просто хотим забыть, господин Хирш! Хотя бы сегодня! Иначе как вообще дальше жить? Все забыть. И эту проклятую фамилию тоже. Мы хотим начать все сначала!
Я смотрел на этого маленького, немного трогательного человечка с всклокоченными седыми волосами. «Забвение, — думал я, — какое великое слово! И какое наивное. Вот только каждый понимает его на свой лад».
— Что за восхитительная выставка разных кушаний, господин Танненбаум, — вставил я. — Здесь хватит на целую роту едоков. Неужели все сметут за сегодняшний вечер?
Танненбаум облегченно улыбнулся:
— Наши гости всегда отличались здоровым аппетитом. Пожалуйста, не стесняйтесь. У нас здесь фуршет. Каждый сам берет то, что ему приглянулось.
Я тут же ухватил куриную ножку с желе и соусом из портвейна.
— Чем тебе Танненбаум не угодил? — спросил я у Хирша, пока мы с ним обходили обильно уставленные столы.
— Всем угодил, — ответил он. — Я сам собой недоволен.
— Да кто же собой доволен?
Роберт пристально посмотрел на меня.
— Все забыть! — сказал он с надрывом. — Если бы это было так просто! Просто забыть обо всем и радоваться мещанскому уюту! Нет, все забыть может только тот, кому нечего забывать.
— Может быть, с Танненбаумом все так и есть, — миролюбиво возразил я, прихватив еще и куриную грудку. — Может быть, кроме потерянных денег ему не о чем забывать. Деньги — не мертвые.
Хирш снова уставился на меня.
— У каждого еврея есть мертвые, забыл он о них или нет. У каждого!
Я огляделся.
— Роберт, — сказал я, — разве все это можно съесть? Что за расточительство?
— Не волнуйся, съедят, — ответил Хирш уже поспокойнее. — В две смены. Сегодня вечером угощают первую смену. Эмигрантов, которые здесь уже чего-то добились. А также профессоров, врачей и адвокатов, которые пока что ничего не добились. Актеров, писателей и ученых, которые все еще не освоили английский язык, а может быть, и никогда не освоят. Короче, бродячие пролетарии в белых воротничках, которые здесь по большей части голодают.
— А завтра? — спросил я.
— А завтра остатки передадут организации, которая помогает самым бедным беженцам. Такая вот примитивная, но действенная помощь.
— Что же тут плохого, Роберт?
— Ничего, — ответил он.
— Вот и я о том же! И что, все это приготовлено прямо здесь, в доме?
— Все, — подтвердил Хирш. — И как приготовлено! У Танненбаума еще в Германии была кухарка. Венгерка по национальности, и поэтому ей не запретили служить в еврейской семье. Когда он бежал из Германии, она его не покинула. Через два месяца она потихоньку перебралась вслед за ним в Голландию, с драгоценностями госпожи Танненбаум в желудке — превосходные камни без оправ, которые хозяйка заблаговременно отдала ей на хранение. Прежде чем перейти границу, Роза проглотила их, запив двумя чашками кофе со сливками и заев парой легких пирожных. В итоге оказалось, что особой нужды в этом не было. Пухленькая, голубоглазая блондинка с венгерским паспортом, все документы в порядке — никому и в голову не пришло ее досматривать. Теперь она готовит ему здесь. Без посторонней помощи. И как она только справляется? Золото, а не кухарка. Последняя представительница славных традиций Вены и Будапешта.
Я взял себе полную ложку румяного паштета из куриной печени. Она была поджарена с луком. Хирш принюхался.
— Перед этим запахом невозможно устоять, — признался он, навалив себе на тарелку большую порцию. — Однажды порция куриного паштета спасла меня от самоубийства.
— Паштет был с грибами или без? — поинтересовался я.
— Без. Зато лука было очень много. Ты ведь знаешь из «Ланского кодекса», что наша жизнь состоит из множества пластов, внутри которых обязательно есть разрывы. Обычно разрывы не совпадают друг с другом, и нижний пласт поддерживает слабое место. И только если все разрывы совпали, дело становится не на шутку опасным. Ни с того ни с сего люди вдруг начинают накладывать на себя руки. У меня однажды такое было. И спас меня запах жареной печенки с луком. Я решил перед смертью немного попробовать. Пока печенку жарили, пришлось немного подождать. Я выпил кружечку пива. Печенка оказалось слишком горячей — я подождал, пока она остынет. Ввязался в чужой разговор. Почувствовал сильный голод — заказал еще порцию. Сперва одно, потом другое, глядь — а я опять заработал как надо. Это не анекдот.
— Охотно верю! — Я потянулся за ложкой, чтобы положить себе еще паштета. — Мера предосторожности, — пояснил я, — для профилактики самоубийства.
— Я расскажу тебе еще одну историю, которая приходит мне на ум каждый раз, когда я слышу ломаный английский, на котором говорят многие эмигранты. Я вспоминаю одну старую эмигрантку, нищую, больную и беспомощную. Она собиралась покончить с собой и, конечно, привела бы свой замысел в исполнение, но, открывая газ, вспомнила, с каким неимоверным трудом ей давался английский язык и что только пару дней назад она впервые почувствовала, что понемногу начинает его понимать. Ей вдруг стало жалко бросить дело на полпути. Зачатки познаний в английском — вот и все, что у нее теперь было, и за них она уцепилась: мол, не пропадать же им! Так потихоньку и выкарабкалась. С тех пор я всегда вспоминаю о ней, когда заслышу этот невыносимый немецкий акцент: наши эмигранты, как ни старайся, не могут от него избавиться. От него меня тошнит, но он и трогает меня до слез. Смешное спасает от трагического, а трагическое от смешного не спасает. Ты только взгляни на этих несчастных! Вот они выстроились перед тарелками с селедкой, итальянским салатом и ростбифом — такие трогательные, с благодарными лицами, изрядно потрепанные, но все еще полные какого-то жалкого мужества! Они думают, что самое худшее уже миновало! Надо, мол, только как-нибудь перебиться, переголодать. А ведь худшее-то еще впереди!
— Это почему же? — удивился я.
— Сейчас у них еще есть надежда. На возвращение. Они мечтают о нем! Вот вернутся они — и справедливость тут же восторжествует. Они все так считают, даже если сами в этом не сознаются. На надежде все и держится. Но ведь это же иллюзия! На самом-то деле они даже не верят — только надеются. А когда они вернутся в Германию, о них никто и знать не захочет. Даже так называемые «хорошие немцы». Одни будут их ненавидеть открыто, другие — подспудно, чувствуя угрызения совести. Прежняя родина окажется гораздо хуже чужбины, где многое можно было стерпеть в надежде на возвращение и почетный прием, подобающий жертвам режима.