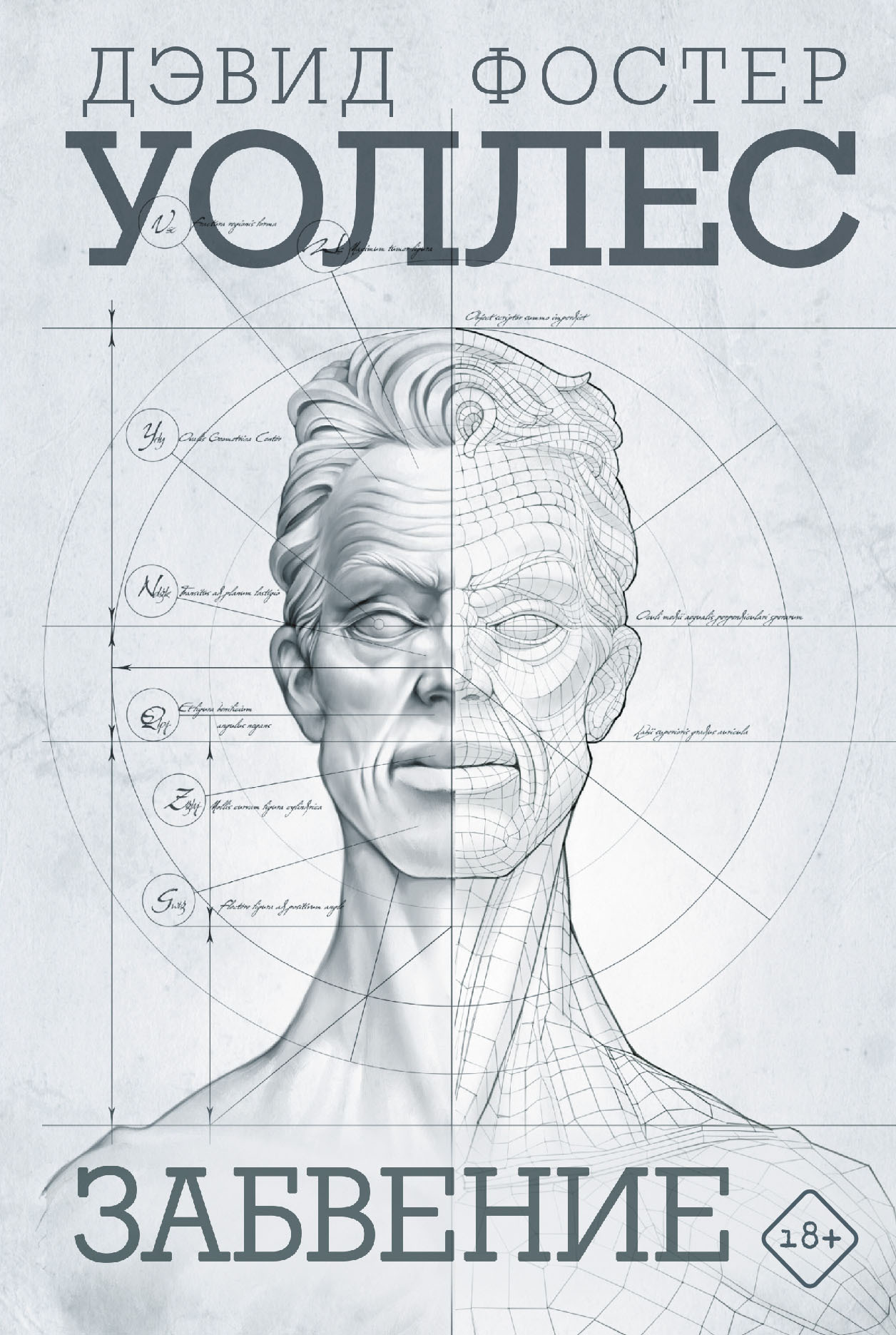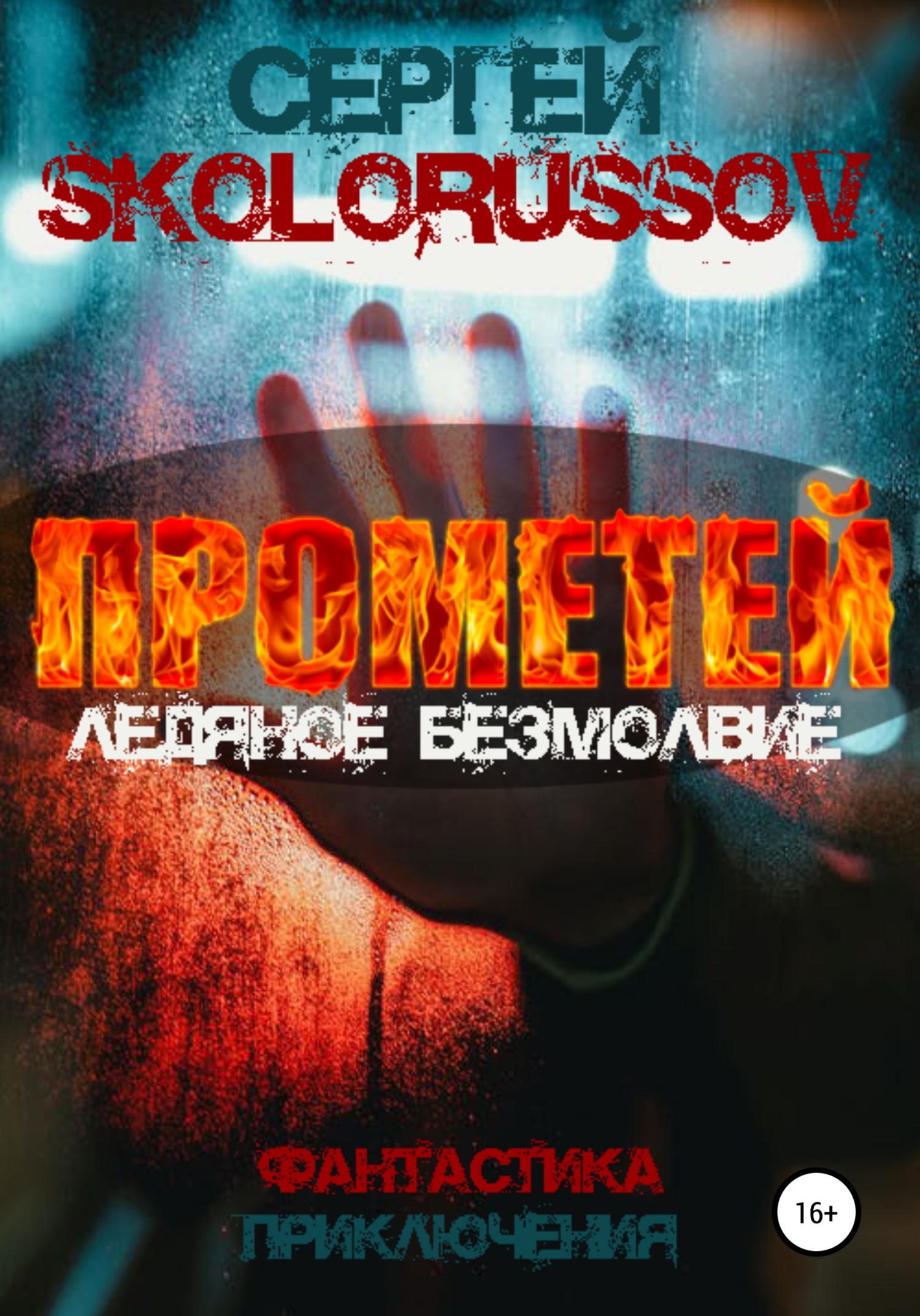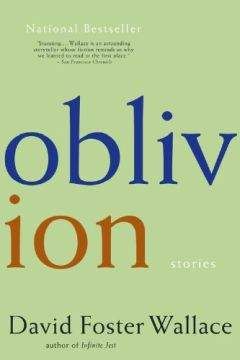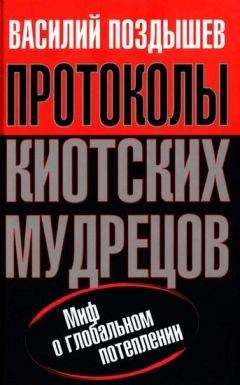стать отказ от политических споров в пользу рыночного консенсуса, который заменит собой идеологические разногласия, и что, покупая в супермаркете только правильные продукты, вы помогаете планете.
Термин «неолиберализм» стал ругательным у левых лишь после мирового экономического кризиса. До этого он в основном выполнял только описательную функцию: в отношении растущей силы рынков, в первую очередь финансовых, в либерально-демократических странах Запада во второй половине ХХ века; и в отношении крепнущего альянса центристов в странах, готовых распространять эти «ценности» в форме приватизации, дерегуляции, низких корпоративных налогов и продвижения свободной торговли.
В течение пятидесяти лет эта программа держалась на обещаниях роста, причем роста не только для избранных. И она стала своего рода глобальной политической философией, растянув единственную идеологическую установку до состояния, когда та опутала весь мир, подобно кокону парниковых газов.
Эта философия была глобальной и в других аспектах; она оказалась неспособной к адаптации как в Англии после финансового кризиса, так и в Пуэрто-Рико после урагана «Мария»; она не умела признавать свои недостатки, парадоксы и слепые пятна, предлагая вместо решения проблем лишь все больше неолиберализма. В итоге силы, спровоцировавшие изменение климата, – то есть «необузданная мудрость рынка» – были представлены как спасители планеты от его последствий. Именно так «филантрокапитализм» (79), который всегда ищет выгоду, в то же время помогая людям, занял место убыточной модели моральной филантропии в умах миллионеров и миллиардеров. Призеры нашего бесконечного экономического соревнования, в котором «победитель получит все», используют филантропию для обеления своего имиджа; «эффективный альтруизм», применяющий показатели окупаемости инвестиций даже к некоммерческим благотворительным организациям, вывел культуру пожертвований далеко за рамки класса миллиардеров; «моральная экономика» (80), риторический термин, когда-то обозначавший радикальную критику капитализма, стала визитной карточкой «добрых» капиталистов вроде Билла Гейтса. Тем временем простых граждан призывают стать предпринимателями (81), чтобы через этот нелегкий труд продемонстрировать свою ценность как граждан в истощенной социальной системе, чья главная определяющая черта – неумолимая конкуренция.
Так выглядит критика со стороны левых, и в некотором смысле она совершенно справедлива. Но, прикрывая рыночными интересами все противоречия и конкуренцию, неолиберализм предложил миру новую модель ведения бизнеса, которая появилась не из бесконечной конкуренции между странами и не направлена на ее поддержку.
Не следует путать корреляцию с причинно-следственными связями. После Второй мировой войны в мире возникла такая неразбериха, что сейчас трудно вычленить одну четкую причину в отношении почти любого события. Но международная кооперация с тех времен сохранилась, возникнув параллельно с относительным миром на планете и бытовым благополучием, что четко совпало с тенденциями глобализации и властью финансового капитала, которые мы теперь относим к неолиберализму. Однако если вы склонны путать корреляцию с причинами, то знайте: существует теория, которая интуитивно и убедительно проводит между ними связь. У рыночной системы, скажем так, есть свои недостатки, но она высоко ценит безопасность и стабильность и при прочих равных условиях обеспечивает устойчивый экономический рост. В виде этого роста неолиберализм обещал нам награду за сотрудничество, эффективно преобразуя – по крайней мере в теории – то, что мы когда-то рассматривали как антагонизм, во взаимовыгодное сотрудничество.
Но по итогам финансового кризиса стало понятно, что исполнить эти обещания неолиберализм не сможет. Лозунги о постоянно растущем, вечно богатеющем обществе изобилия лишились смысла, а вместе с ними – и политическая экономия, ориентированная на ту же цель. Те, кто продолжает держаться за эту концепцию, уже чувствуют себя совсем не так уверенно, как лет десять или двадцать назад, – словно спортсмены, внезапно вышедшие на арену через много лет после пика карьеры. Но глобальное потепление готовит еще один удар, возможно, смертельный. Если Бангладеш затопит, а Россия останется в плюсе, конечный результат окажется весьма неприглядным для неолиберализма – и, возможно, еще хуже для либерального интернационализма, который всегда был его верным соратником.
Каких тенденций в политике стоит ожидать после крушения надежды на постоянный рост? Перед нами открывается целый океан возможностей – например, новые торговые соглашения могут учитывать этические аспекты изменения климата и включать в себя экстренные меры по сокращению выбросов и санкции за «недостойное углеродное поведение»; возможно, появится новый глобальный законодательный режим, который дополнит или даже заменит собой главенствующий принцип защиты прав человека, доминировавший, по крайней мере в теории, с конца Второй мировой войны. Но неолиберализм держался на обещании взаимовыгодной кооперации во всех сферах, так что в голову сразу приходит естественный преемник – политика жесткого антагонизма. Чтобы понять, что нас ждет, не нужно заглядывать в будущее или верить, что на него повлияют изменения климата. Будущее уже наступило, и мы смотрим его трейлер – в виде трайбализма в США и национализма в других странах; терроризма, просачивающегося из трещин развалившихся государств. Осталось дождаться, когда разразится серьезная буря.
Если неолиберализм – это некое высшее божество, не совладавшее с изменением климата, то каких младших богов оно породит после себя? Этот вопрос был рассмотрен Джеффом Манном и Джоелом Вайнрайтом в книге «Климатический левиафан: политическая теория нашего планетарного будущего» [110], где они пересмотрели идеи Томаса Гоббса [111], чтобы вычленить из них наиболее вероятную политическую систему, которая возникнет после кризиса потепления и его разрушительных последствий (82).
В своем «Левиафане» [112] Гоббс излагает вымышленную историю политического согласия, через которую он показывает так называемый общественный договор – люди жертвуют своей свободой в обмен на защиту, предлагаемую королем. Манн и Вайнрайт считают, что глобальное потепление предполагает нечто похожее для будущих авторитарных режимов. В мире новых опасностей граждане откажутся от свобод в обмен на безопасность, стабильность и относительную защищенность от климатической депривации, порождая новый тип суверенной власти для борьбы с форс-мажорными природными событиями. И эта новая власть будет не национальной, а планетарной – единственной силой, способной отвечать на глобальные угрозы.
Манн и Вайнрайт придерживаются левых взглядов, и в их книге встречаются призывы к активным действиям, но даже они с сожалением признают, что править планетой будет наверняка тот, кто уже стал одним из виновников изменения климата, то есть неолиберализм. Вернее, это будет даже некий постнеолиберализм, полноценное всемирное государство, обеспокоенное практически исключительно вопросами движения капитала – фиксация на этих проблемах едва ли поможет ему справиться с потрясениями от изменений климата, но при этом не поставит под угрозу его легитимность. Это и есть тот «Климатический Левиафан»