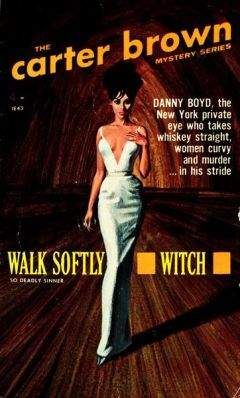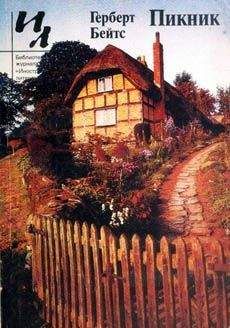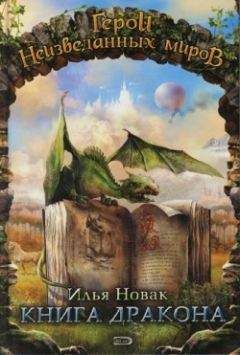Гуляй Волга
Роман
Отвага мед пьет
и кандалы трет.
1
Заря, распустив сияющие крылья, взлетела над темной степью... Переблески зари заиграли в просторах ликующего неба, расступились сторожевые курганы, на степь выкатилось налитое золотым жаром тяжелое солнце, и зеленое раздолье дрогнуло в сверканье птичьих высвистов.
Степь
весна
ветер...
По большому Раздорскому шляху, что пролег меж Доном и Волгою, на горбоносых ногайских конях легким наметом бежала казачья ватажка голов в полста. Одеты казаки были небогато, как всегда одевались, отправляясь в дальние походы. На одном – смурый кафтанишко; на другом, для ловкости, безрукавый зипун; на ином – татарский полосатый халат, из дыр которого торчали клочья ваты; многие в холщовых, заправленных в штаны рубашках. За кушаками – пистолеты, широкие – в ладонь – ножи, кистени на перевязях из пожилины да кривые – азиатских статей – шашки. За плечами кое у кого еще болтались луки, но у многих были уже и ружья, кои в ту давнюю пору являли собой диковину на всю знаемую Азию и на все Дикое поле.
День разыгрывался.
Играла степь хороша-прехороша. Ехали долом, ехали увалом, ехали как плыли: трава-то стояла густа да высока – у коней и голов не видать.
В небе, еле шевеля крылом, кружил орел. За дальним курганом, подобен тени, промелькнул отбившийся от стада олень. Куземка Злычой сорвался и, гикая, припустился было за ним, но скоро вернулся.
– Ну как, Куземка, не догнал? – окликнул его чернобородый казак, похожий обликом на турка.
– Коня пожалел, Ярмак Тимофеич, – отозвался Злычой и потрепал жеребца по запотелой шее. – Коня пожалел, а то не утек бы, бес рогатый, от моего аркана. [25/26]
– Гуторь... Не провор ты малый, погляжу я... Прямо промах парень...
– Я-то?
– Ты-то. Га-га-га-га-га!..
– Да я, твоя милость, позапрошлой весной на Сагизе-реке бородатого орла зрел и чуть-чуть не словил... Такой орлина богатырский, на трех дубах гнездышко пораскинул... Еду я туркменской степью, по сторонам остренько поглядываю... Тут сыру-ярью река протекла, там камышовое болото повылегло – место глухое, место страшное...
Был Ярмак не молод и не стар – самый в соку – мастью черен, будто в смоле вываренный, и здоров, здоров как жеребец. Ржал Ярмак, задрав голову, – конь под ним садился. Из хвоста ватаги на голос атамана нежным ржанием отзывалась кобыла Победка. В сдержанной усмешке сверкали зубы казаков.
– Весть подает...
– Ночь темна, лошадь черна, еду-еду да пощупаю – подо мной ли она?– рассказывал Куземка.
Казаки перемигивались и жались поближе к баляснику.
– Бородатый, говоришь?
– Ну-ка, ну, развези!..
Угадав в голосах насмешку, Куземка замолчал и на все упросы товарищей отмолчался. Батыжничать он любил по ночам у костра или при блеске звезд, а так был несловоохотлив.
Пылал и сверкал над омертвевшей степью полдень. Взъерошенный перепел сидел в травах, раскрыв горячий клюв.
Приморенные кони начали спотыкаться.
У степного озерца, в тени онемевших от зноя ясеней, ватага стала на привал.
Наспех похлебали жиденького толокна, пожевали овсяных лепешек и провонявшей лошадиным потом вяленой баранины, – нарезанное тонкими жеребьями мясо вялилось под седлами, – и, выставив охраняльщика, полегли спать.
Степь
травы
марево
стлалась над степью великая тишина, рассекаемая порою лишь клекотом орла.
Спутанные кони, спасаясь от овода, по уши заходили в озеро и, вздыхая, скаля зубы, тянули теплую мутноватую влагу.
Вольно раскинувшись по примятой траве, на разные лады храпели казаки.
Жара мало-помалу свалила. Сквозные светлые тени ясеней легли на дорогу, загустели синеющие дали, дохнуло прохладой.
Снова тронулись пустынной степью.
Путь-дорога, седые ковыли...
Ехали – как плыли – в сумерках. Ехали и потемну, слушая тишину да крики ночных птиц. [26/27]
Во всех звездах горела ночь.
Ехали молча.
И снова поредела ночная мгла, степь залило росою, как дымом.
В лоб потянуло свежим ветром.
Ярмак привстал на стременах и, раздувая на ветер тонкие ноздри горбатого носа, сказал:
– Ну, якар мар, Волга!
И не из одной груди вылилось подобное вздоху могучее слово:
– Волга...
Дремавшие в седлах гулёбщики приободрились, пустили коней рысью и загайкали песню.
Степь
простор
безлюдье...
На курганах посвистывали суслики. В небе маленькие, словно жуки, плавали орлы. Ветер колыхал траву, гнал ковыльную волну.
Впереди показались, выгибая щетинистые хребты, нагорья, ныне они голы, а в былое время стояли в крепких лесах.
– Волга...
По нагорному приглубокому берегу ватажка направилась к устью речки Камышинки.
На луговой стороне в сочной зелени трав сверкали, тронутые легкой рябью, густой синевы озера; зеленым звоном звенел подсыхающий ковыль, и далеко-о-о внизу, как большая веселая жизнь, бежала Волга...
2
Заросшая папоротником тропа вывела Ярмака на поляну, нагретую солнцем, – малиновым духом так и обдало казака. Увидав в чащобе ивовые шалаши и землянку, он закричал:
– Гей, гей, есть ли тут крещена душа?
Из землянки вылез до глаз заросший седым волосом старик. Он был бос, и наготу его еле прикрывало ветхое рубище. Из-под трепещущей руки долго вглядывался в пришельца.
– Али не узнаешь, Мартьян Данилыч, своего выкормыша? – не в силах сдержать радости, кинулся к нему Ярмак и загремел: – Га-га-га-га-га, здоров будь, атаманушка!
– Чую, с Дону казак...
– Эге.
– Ба-ба-ба... Да никак ты, Ермолаюшко?
– Я и есть.
Они обнялись и поздоровались по ногайскому обычаю, троекратно – как кони – кладя друг другу голову с плеча на плечо.
– Жив-здрав?.. Принимай гостя. [27/28]
– Рад гостю.
– Поклонов тебе приволок и с Дону и с Волги от ножевой орды, от рыбацких куреней...
Ярмак сбросил баранью шапку, заскорузлой от лошадиного пота полой чекменя отер разгоряченное лицо и уселся в тень ракитова куста, подвернув под себя ноги.
– Помню я тебя, Ермолаюшко, вот каким, а ноне гляди-ка какой вымахал!.. Поди-ка и сам в атаманах ходишь?
– Эге, – довольно усмехнулся казак.
– Так, так... Узнаю сокола по спуску... Велика ль артель?
– Чубов под сотню.
– Где станом стоите?
– На Булане-острове.
– Доброе место, рыбы невпробор и от лихого глаза укрыто. Когда-то мы с твоим батюшкой, Тимофеем, два летичка на Булане пролетовали и ох не молвили...
Ветками зелени старик застлал земляной стол и поставил перед гостем деревянную чашку с медом да чашку с ключевой водой.
– Не обессудь, сынок, без хлеба живем... Леса у нас дики, места просты, голосу человечьего не слышно, следу зверьего не видно, змеиных ходов – и тех нету.
Ветхие сети были раскинуты по кустам орешника. Ветрилась нанизанная на лычки пластанная рыба, светлые капли, вспыхивая на солнце, скатывались с рыбьих хвостов. В жирных лесных травах дух стоял ядреный да сычоный. Из облепленного пахучими травами дупла по лубяному носку стекал мед в долбленую бадейку. Под липами гудели пьяные пчелы.
– А народы где?– спросил Ярмак, оглядывая рыбачий стан.
– Уплыли к монахам рыбу на хлеб менять, в полуутра возвернутся... Што, Ермолаюшко, с орды вестей?
– Ордынцы ныне приутихли, не слыхать.
– Так, так...
– Лонись ходили мы, волские и донские атаманы, ногайцев проведывать и в устьях Яика сожгли столицу басурманскую, Сарайчик... За таковое удальство царь хвалющую грамоту на Дон прислал, а на Волге атамана Бристоусца да атамана Иваньку Юрьева расказнил, а они ни сном ни духом про тот наш поход не ведали.