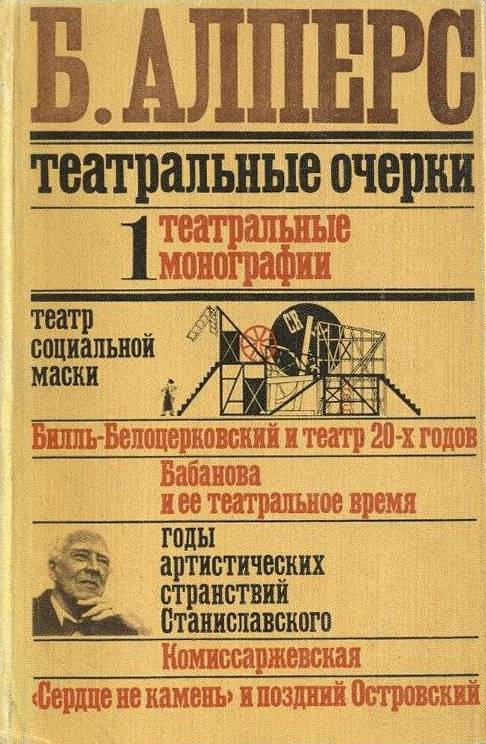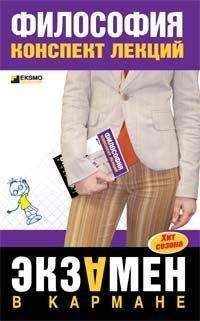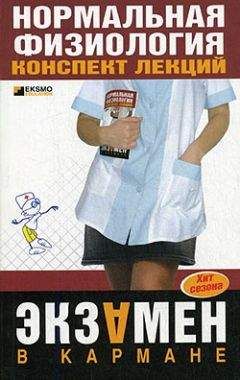стены (маленький шедевр – вроде мужской фигуры в светлом дверном проеме на заднем плане «Менин» Веласкеса); непослушные кудри, которые кажутся живыми и осязаемыми оттого, что художник процарапал их сквозь красочный слой, обнажив грунт под ними; сияюще-розовый цвет уха, мочка которого тронута внизу беспримесным красным. Глаза, которыми художник изучает себя, скрыты в тени. Он выступает одновременно как живописец и как натурщик, и эти элементы, усиливая друг друга, включаются в перформативную игру. И даже в этом раннем автопортрете Рембрандт уже привлекает внимание зрителя к самой материи живописи – к краске, интуитивно связывая эту сосредоточенность на своем рабочем материале с сосредоточенностью на самом себе.
В литературе неоднократно обсуждался тот факт, что Рембрандт в молодые годы часто изображал себя на исторических полотнах, иногда – дважды на одном и том же. Можно сказать, что, появляясь во второстепенных ролях в ранних картинах лейденского периода, он не утаивает, а выставляет напоказ прием художественного вымысла: он предстает как актер-исполнитель в сцене, которую сам же и придумал, выступая в роли художника (ил. 43). Согласно некоторым интерпретациям, глубокий нравственный смысл скрыт, например, в изображениях Рембрандта, прижимающегося к телу Спасителя в сцене «Снятия с креста», или, как неоднократно указывалось, изображающего себя блудным сыном: с Саскией на коленях, со шпагой на боку и с поднятым бокалом (ил. 44). Традиция включать в картину свой автопортрет в образе Никодима или Иосифа Аримафейского существовала и до Рембрандта – и, по крайней мере, один его голландский современник, Франс ван Мирис, тоже запечатлел себя с женой на коленях, возможно, также примерив на себя роль блудного сына. Однако подвизаясь в подобной роли на дрезденской картине, Рембрандт переигрывает, его поведение и жесты кажутся преувеличенными, напускными. Особенно показной и наигранной эта сцена может показаться, если вспомнить о желании разбогатеть и войти в высшее общество, которым Рембрандт был движим со времени своей женитьбы на Саскии: он словно говорит, что он, голландский художник, добился успеха, вступив в брак с представительницей правящего класса. Саския, молодая женщина, запечатленная в облике блудницы у него на коленях, была дочерью бургомистра. Между двумя персонажами картины чувствуется напряжение – возможно, потому что Рембрандт, не получив однозначного согласия Саскии, изображает их удачный брак в ироническом, сниженном ключе. (Судя по рентгенограмме, Рембрандт удалил третью участницу пиршества, которую изначально запечатлел между блудным сыном и распутницей. В результате всё внимание зрителя оказывается прикованным к этой паре, и он, скорее, склонен воспринимать изображенных как супругов.) Обсуждаемая картина – ранний пример искусной актерской игры, то есть таланта, которого Рембрандт явно не был лишен, если уж его так завораживало коварство Иуды. Он вызывающе выставляет напоказ расточительность, изобилие и роскошь, позволяя своему персонажу предаваться чувственным и материальным излишествам, о которых и знать не полагалось голландским супругам – добродетельным, бережливым и скромным. Шпага, привлекающая внимание зрителя, в данном случае – не эмблема доблести живописца, в отличие от доспехов, в которых иногда он изображал себя на других автопортретах, а оружие беспутного гуляки и задиры. Однако в целом автор без стеснения демонстрирует в этой картине свой изобразительный талант [75].
Можно сопоставить то ниспровержение социальных и художественных конвенций, которое мы наблюдаем у Рембрандта, с явной гордостью, которую испытывает Рубенс, публично подтверждая свою новую роль супруга на знаменитом портрете с женой (ил. 45). Возможно, Рембрандт, выбирая для себя роль блудного сына, столь же разоблачает себя в ней, сколь и скрывается за нею. Рассматривая любое произведение, в котором он играет роль, выступая в качестве собственной модели, можно спорить о том, входило ли в его авторскую интенцию «саморазоблачение», думал ли он, что зрители узнают его в его персонаже, и с какой целью он мог использовать подобный прием. То же самое можно сказать и об этюдах голов и лиц, где Рембрандт запечатлел собственные черты, хотя я полагаю, что, прибегая к этим театральным практикам в своей мастерской, он намеренно наделяет их некоей смысловой неопределенностью, не давая окончательных интерпретаций. В итоге возникает то, что я обозначила как проблему «неясности живописного сюжета».
История отношений нидерландских художников и театра пока не отражена в полной мере ни в одной научной работе, есть лишь отдельные исследования, посвященные этой теме. В Антверпене художники гильдии Святого Луки объединились с членами риторических обществ (rede rijkers) в одну палату, или клуб (kamer), который просуществовал с 1480 по 1663 год, когда была основана Академия изящных искусств. Многие художники одновременно выступали в амплуа поэта-драматурга. Художник и теоретик искусства Карел ван Мандер, в своих трактатах всячески способствовавший распространению интереса к живописи Северной Европы, в юности подвизался во Фландрии как автор фарсов и декоратор для одной из риторических палат. Список участников риторических объединений в Харлеме XVII века после смерти ван Мандера, то есть на закате их существования, включает в себя немалое число художников: Франса Халса, отца и сына де Браев, Эсайаса ван де Велде, Яна Вейнантса, Адриана Брауэра и других. Художники и поэты объединялись в риторических палатах по очевидным практическим соображениям: художники рисовали гербы, выполняли декорации спектаклей и оформляли публичные празднества, а поэты писали тексты, в которых художники черпали сюжеты своих картин и идеи сценических эффектов. Ян Стен, который не состоял ни в одном из риторических обществ, но часто изображал собрания их участников и писал картины на сюжеты их пьес, возможно, был самым известным голландским художником, в творчестве которого отразилось подобное сотрудничество [76].
Проанализировав творчество Рембрандта, мы приходим к выводу, что художников могла интересовать и привлекать сама актерская игра, – предположение, прежде не высказывавшееся в литературе. Существуют весьма скудные свидетельства того, что художники выступали на сцене наравне с другими участниками риторических палат. Ученик ван Мандера Якоб де Гейн II исполнял роль Давида в пьесе или пантомиме в 1594 году во время торжественных празднеств. Менее значим, возможно, тот факт, что амстердамский драматург Гербранд Бредеро, до того как обратился к сочинению пьес, был художником [77].
Однако, если оставить в стороне деятельность риторических палат, найдется немало доказательств, хотя и весьма эксцентрического свойства, что живописцы имели славу недурных актеров. По крайней мере, так можно воспринимать поведанные ван Мандером истории из жизни Питера Брейгеля и харлемского гравера и художника Хендрика Голциуса. По слухам, Брейгель облачался в крестьянскую одежду и, притворившись крестьянином, неузнанный, посещал сельские празднества. Голциус во время своей образовательной поездки в Италию не только любил меняться ролями со своим слугой, но и однажды, будучи в Мюнхене, постучался в дверь своего коллеги-художника