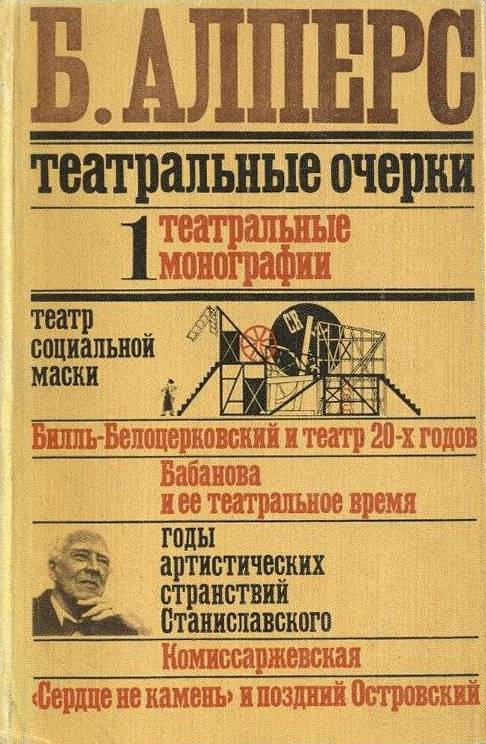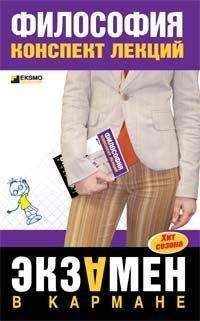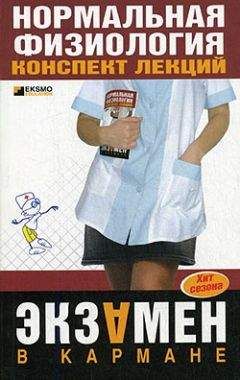или разыгрываемого в иных обстоятельствах; жесты отдельных участников происходящего и их поведение в целом, причудливость костюмов, в которые они облачены, необычная обстановка сцены – все эти особенности, намекающие на загадочный, ускользающий от точных определений сюжет, и позволили ряду исследователей трактовать «Ночной дозор» в театральном ключе, как сцену из некоей пьесы [64]. Сторонникам этой версии могли показаться «театральными» преувеличенные жесты, затейливые костюмы и, может быть, световые эффекты. Перечисленные черты характерны не только для «Ночного дозора», но и для целого ряда рембрандтовских картин, особенно, как принято считать, для тех, которые созданы в 1620–1630 годах, то есть в первой половине его творческого пути. В таком случае, под «театральным» началом его творчества понимается интерес к подчеркнуто внешней демонстрации чувств или деталей костюмов. Долгие годы принято было считать, что эти черты отсутствуют в зрелых работах Рембрандта. По сути, стандартная характеристика творчества Рембрандта гласит, что художник преодолел собственное тяготение к театральному началу и перестал видеть в окружающем мире драму, разыгрываемую на театральных подмостках. Типичный вывод, к которому приводит, например, традиционное сравнение ранней и поздней трактовок сюжета «Давид и Саул»
(ил. 36, 37), таков: в зрелом возрасте живописец отверг прежнюю поверхностность и даже фальшивость преувеличенных жестов и причудливых одеяний, чтобы показать и даже обнажить истинную природу человеческих мыслей, чувств и побуждений.
Но неужели Рембрандту действительно потребовались годы, чтобы осознать природу театральной жестикуляции? Может быть, напротив, он с самого начала отдавал себе отчет в ее обманчивом, неискреннем характере, но тем не менее принимал? Наше предположение можно проверить, проанализировав хорошо известную картину «Раскаявшийся Иуда, возвращающий сребреники» (ил. 38). Она приобрела известность не потому, что ее видели многие поклонники творчества Рембрандта, а потому, что стала первой работой, заслужившей высокую и вполне конкретную похвалу одного из первых почитателей его таланта, секретаря статхаудера [65] Константина Гюйгенса. Исследователи неоднократно цитировали тот фрагмент рукописной автобиографии, в котором Гюйгенс превозносит Рембрандта и другого молодого лейденского художника, Яна Ливенса. Гюйгенс особенно отмечает в хвалебных тонах выразительность тела и одежд Иуды: «С искаженным лицом, взлохмаченными волосами, в растерзанных одеяниях, со словно сведенными судорогой руками, кисти которых стиснуты столь сильно, что, кажется, кровь в них вот-вот застынет, он упал на колени, распростерся, не разбирая, куда повергло его исступленное раскаяние, от которого всё тело его словно содрогается в рыданиях…»
Следуя примеру Гюйгенса, комментаторы избрали фигуру Иуды идеальным образцом того типа жестикуляции, к которому тяготел ранний Рембрандт. Но Гюйгенс начинает свое вдохновенное и детальное описание картины, обращая внимание на то, что даже здесь Иуда, исполненный выразительности персонаж картины, в каком-то смысле играет роль: «Иуда кричит, словно безумный, он умоляет о прощении, но предощущает, что оно не будет ему даровано, весь облик его выражает безнадежность…» [66] Нельзя исключать, что в своем толковании Гюйгенс ориентируется на Кальвина, полагавшего, что раскаяние Иуды, в сущности, было неискренним. Кальвин воспринимал его как пример притворного папистского раскаяния, ибо оно выставляет напоказ знаки скорби, но лишено глубокого внутреннего осознания греховности, а значит, такой «кающийся» не может надеяться на обретение Божьей благодати: «Иуда ощутил лишь поверхностное раскаяние, но не раскаялся глубоко в душе <…> Посему Иуда исполнился отвращения и ужаса, не тщась искать прибежища в Господе, а скорее охваченный отчаянием оттого, что будет всецело оставлен благодатью Господней» [67]. Как и в часто изображаемой сцене поцелуя, Иуда, подобно актеру на сцене, «играет» эмоции: если ранее он изображал любовь к Христу, то теперь изображает угрызения совести. Однако на сей раз в основе его «актерской игры» лежит не столько обман, сколько назидание другим, поучительный пример сыгранного, неискреннего раскаяния. Неотъемлемой составляющей тех экспрессивных жестов, которыми Рембрандт наделяет Иуду, является, так сказать, основополагающее признание их неискренности, «сыгранности» [68].
Среди офортов, выполненных по оригиналам Рембрандта Яном Йорисом ван Влитом, есть и гравюра с головой Иуды, которую в литературе последующих эпох было принято называть «Скорбящий» или «Страдающий» (ил. 39). Это название, как и сам офорт, отражает типичное восприятие рембрандтовского Иуды: упрощающее, сокращающее число возможных интерпретаций. Тем самым я хочу сказать, что ван Влит отказался от передачи «театральных» аспектов этого образа – здесь Иуда есть тот, кем кажется. Финальный шаг в переосмыслении рембрандтовского образа Иуды был сделан Венцеславом Холларом, который создал офорт уже по оригиналу ван Влита, преобразив сыгранное, театральное раскаяние Иуды с картины Рембрандта в «истинный» плач Гераклита, запечатленного вместе с Демокритом (ил. 40).
Для подтверждения важной роли феномена театральности в раннем творчестве Рембрандта мы можем обратиться к картине «Самсон, задающий загадку на свадебном пире» (ил. 41), написанной спустя примерно десять лет после «Иуды». Весьма примечательно, что это вторая картина – наряду с «Иудой», – удостоившаяся многократных упоминаний в текстах современников. Рембрандт вновь использует эксцентричный сюжет, редко привлекающий внимание художников: он изображает брачный пир по случаю женитьбы Самсона на филистимлянке. Справа мы видим Самсона, задающего загадку филистимлянам, в то время как почти в центре за пиршественным столом, застенчивая, неловкая и скованная, восседает его молодая супруга, названная в Библии женщиной из Фимнафы. Именно она предаст Самсона своим соотечественникам, обманом выведав у него разгадку. Изображенная в типичной позе невесты (исследователи неоднократно отмечали ее иконографическое сходство с невестами Брейгеля), скромная и стыдливая, она есть воплощение принципа «внешность обманчива», ведь она попытается погубить мужа. И снова в центре оказывается фигура предателя, в данном случае – жены-обманщицы, чьи облик и поступки приходится трактовать как игру, как исполнение роли, как театральное представление. Центральное место, которое отводится этой фигуре, подчеркивает и композиция картины, очень напоминающая «Тайную вечерю» Леонардо, вот только на место Христа Рембрандт «усаживает» жену Самсона, которая его предаст.
Опираясь на эти две работы, я утверждаю, что Рембрандт вполне осознавал неискренность показного жеста и интересовался этим феноменом еще в начале своей художественной карьеры. Но, пожалуй, уместнее говорить, что он интересовался не просто «обманчивыми» и «лживыми» жестами, а именно исполняемыми, сыгранными как бы на сцене. Изображая Иуду, а затем женщину из Фимнафы, он предпочел увидеть в них прежде всего самозабвенных, одержимых собственной игрой актеров.
Очарованность Рембрандта двумя столь коварными притворщиками может показаться безнравственной, да и излишне театральной, ведь мы привыкли критиковать «театральность» его ранних персонажей (и «театральность» искусства в целом) на основе подразумевающегося противостояния лжи и искренности или истинности. В таком случае мы воспринимаем подобного рода театральность изображенного с точки зрения своего рода непримиримого адепта искренности, да еще и уверенного в том, что в конце концов всё это актерство будет